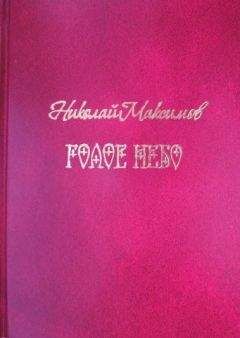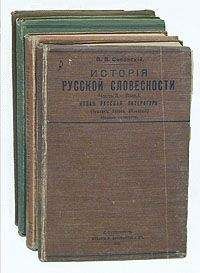Жан-Филипп Жаккар - Литература как таковая. От Набокова к Пушкину: Избранные работы о русской словесности
Достоевскому, одному из лучших читателей своего знаменитого предшественника, приписывают слова: «Все мы вышли из гоголевской шинели», — той самой «Шинели», которая занимает центральное положение в зеркальной структуре цикла. Конечно, Достоевский слышал этот голос. Факт тем более замечателен, что критики социологической направленности, и первый их представитель Белинский, авторитет которого признавался почти безоговорочно, сводили творчество писателя к обвинению режима. Будучи «реалистом», Гоголь показывал, по Белинскому, самые неприглядные стороны самодержавия. «Мертвые души» приветствуются критиком как обвинение крепостничества. Эта мысль была затем механически подхвачена так называемой «радикальной» критикой XIX века, а позднее и советской. В том же духе о «Шинели» будут говорить, что она направлена против мощной административной машины Николая I, безжалостно давящей «маленького человека». Чего только не прочтешь о знаменитой фразе, которую произносит Акакий Акакиевич в ответ на насмешки коллег: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» (123). Эта фраза, произнесенная тоном, в котором «слышалось что-то такое преклоняющее на жалость», что недавно поступивший на службу чиновник услышал в ней: «Я брат твой» (123–124), по мнению критика, была криком протеста, выражением той «гуманности», которую Белинский призывал в литературу и которую видел у Гоголя. Какое разочарование постигло его, когда в 1847 году, вместо ожидаемой всеми второй части «Мертвых душ», Гоголь публикует то, что считал своим великим поучительным произведением, «Выбранные места из переписки с друзьями». Возмущенный Белинский увидит в этом сборнике писем лишь мешанину из проповедей «curé du village»[568], защитника патриархальных порядков, угодных Богу и самодержавию. Это было предательством, и Белинский в письме, которое получит большое хождение в политических и литературных кругах, призовет Гоголя порадоваться «вместе <с ним> падению <его> книги»[569], этого «тяжкого греха», который он мог бы «искупить новыми творениями, которые бы напомнили <его> прежние»[570].
Белинский хорошо понимал необходимость перемен в России, но был глух к «мудрости романа». Эта глухота подчас побуждала его говорить нелепости. Например, он упрекал «Портрет» в фантастичности: здравая идея, состоявшая в представлении «даровитого художника, погубившего свой талант, а следовательно и самого себя, жадностию к деньгам и обоянием мелкой известности», была испорчена, по Белинскому, недостатком простоты, что растворило повесть в «фантастических затеях». Если бы его повествование было основано на «ежедневной действительности», «тогда Гоголь с своим талантом создал бы нечто великое. Не нужно было бы приплетать тут и страшного портрета <…>; не нужно было бы ни ростовщика, ни аукциона, ни многого, что поэт почел столь нужным, именно от того, что отдалился от современного взгляда на жизнь и искусство» (323–324). Представим: следовало написать «Портрет» без фантастических деталей, без ростовщика и даже без самого портрета! Убогость этих рас-суждений впечатляет, когда думаешь об эстетическом значении гоголевского цикла повестей.
Белинский не понял религиозного измерения творчества Гоголя, не понял он и его пародийного измерения, и тем самым всего, что составляло новизну его произведений. Такое политизированное прочтение Гоголя укоренилось надолго. Нужно было дождаться начала XX века, чтобы непредвзято пересмотреть его творчество и оценить его с художественной точки зрения. Формалист Эйхенбаум — ограничимся только его оценкой — предложил новый подход в знаменитой статье с программным названием: «Как сделана „Шинель“ Гоголя» (1924). Автор призвал перестать утверждать, что содержание повести сосредоточивается в крике отчаяния Акакия Акакиевича («Зачем вы меня обижаете?»), и предложил прочтение, выявлявшее истинную фактуру повести как следствие ее стилистических характеристик и тем самым истинный ее смысл. Эйхенбаум показал, что «Шинель» построена на двух «композиционных слоях»: один комический, основанный на мимической артикуляции (как незабываемая генеалогия героя), другой — на патетической декламации, как знаменитая фраза, на которой и сосредоточился социологический подход («Я брат твой»). Если рассматривать лишь первый слой, «Шинель» сводится к комическому сказу; если же замечать лишь второй, мы попадаем в ловушку так называемой гоголевской «гуманности». И в обоих случаях фантастический финал повести (появление призрака-мстителя Акакия Акакиевича) остается необъяснимым. Эти слои выявляют смысл текста, только если мы видим их в совокупности, если замечаем их чередование и контраст: каждый из слоев глубоко изменяет смысл повести, рассматриваемой лишь в одном из них (так бурлескное приключение Пирогова меняет патетический тон рассказанного перед тем приключения Пискарева). Несомненно, что к тому и стремился Гоголь, ведь по его черновикам мы видим, что «патетическая декламация» была добавлена к первому — комическому — слою лишь позднее. Отсюда и происходит то «гротескное» действие, что лежит в основании гоголевского приема, в котором «мимика смеха сменяется мимикой скорби»[571].
Тот же тип анализа уместен для всего цикла. Правда, лишь в позднейшее время, при подготовке издания 1842 года, Гоголь выстроил единый текст, порождавший новый расширенный смысл, до тех пор скрытый, и смысл этот призывал a posteriori к новому прочтению каждой повести. Предложенное прочтение подтверждает, как нам кажется, новаторство писательской манеры Гоголя: пародийное разрушение жанровых канонов; значащая структура; обрывы повествования; обнажение используемых приемов; стилизованный повествовательный дискурс; разбухание описаний; автокомментарии и т. д. Эти методы принадлежат к числу тех, что XX век поместит в центр своей эстетики. Новое прочтение делает мучительно ощутимым распад действительности, что превращает гоголевский персонаж в предшественника «человека абсурда» XX века, одинокого в раздробленном мире; оно выявляет и религиозный аспект этого (безнадежного) призыва к трансцендентности искусства. Последнее тоже несет в себе новизну.
Гоголь не был борцом. Не был он и curé du village. Не был забавником. Он был писателем, то есть тем, кто вкладывает в свои произведения единое смысловое Целое, а если этого не происходит, то сжигает рукопись. Что Гоголь и сделал со второй частью «Мертвых душ». И вскоре после этого умер.
Перевод Е. БерезинойV. ОСВОБОЖДЕННОЕ СЛОВО, СВОБОДНОЕ СЛОВО
О зеркальной структуре повести «Дьяволиада» Михаила Булгакова[*]
«Абсолютная ценность этой вещи <…> — уж очень какой-то бездумной — не так велика, но от автора, по-видимому, можно ждать хороших работ» — таким был отзыв Е. А. Замятина на появившуюся в 1924 году в альманахе «Недра» (кн. 4) небольшую повесть М. М. Булгакова «Дьяволиада»[573]. Время покажет, что писатель не ошибался, говоря о творческих возможностях Булгакова, однако его оценка произведения представляется слишком суровой, а общепринятое мнение, согласно которому эта повесть неудачна, — спорным. В. Я. Лакшин, отмечая, что «пусть повесть в целом не удалась», тем не менее писал, что «у серьезного автора ничего напрасным не бывает»[574], поэтому необходимо по-новому взглянуть на «Дьяволиаду», тем более что исторически она является первым камнем того громадного сооружения, которым станет «Мастер и Маргарита»[575]. Разбор «Дьяволиады» представляется интересным еще и потому, что о ней было написано довольно мало. Фактически лишь Ф. Левин отводит ему важное место в исследовании гротеска в прозе Булгакова[576]. Обычно «Дьяволиада» воспринимается как сатира на новоявленную советскую бюрократию, написанная в традициях Гоголя и Достоевского, а ее главный герой Коротков — как потомок Акакия Акакиевича и Голядкина. Все это так, однако, перечитывая повесть, можно заметить, что Коротков — жертва не только мелких тиранов, опирающихся на громоздкую административную машину, но и раздвоения, толкающего его к безумию и делающего его фигурой трагической (несмотря на то, что сама повесть остается произведением комическим), и что раздвоение прекрасно окаймлено самой структурой текста.
Безусловно, «Дьяволиада» представляет собой некие вариации на тему двойников, хотя, и это следует подчеркнуть, собственно двойников в произведении нет. Читатель уже подзаголовком («Повесть о том, как близнецы погубили делопроизводителя») извещается о том, что Кальсонеры — близнецы. Следовательно, безбородый — двойник бородатого только в воображении героя, дающего событиям неправильную интерпретацию. Коротков, как и герой «Отчаяния» Набокова, сам себя вводит в заблуждение. Не подлежит сомнению, что сам автор и не пытается сбить читателя с толку: всему можно найти рациональное объяснение, и лишь неспособность Короткова разумно мыслить превращает реальность в кошмар. Именно он, и только он один, видит в появлении бородача и изменении голоса («Голос тоже привязной»[577]) дьявольский фокус. Он же отказывается понять секретаршу Яна Собесского, говорящую об «этих ужасных Кальсонерах» (29).