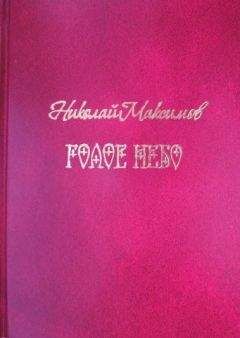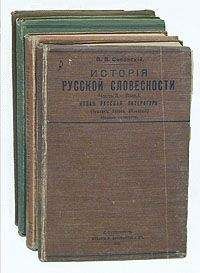Жан-Филипп Жаккар - Литература как таковая. От Набокова к Пушкину: Избранные работы о русской словесности
Перечитаем теперь заново «Петербургские повести» в свете приведенных соображений. «Невский проспект» казался нам парой историй, следующих одна за другой и практически независимых (героев мы сначала видим вместе, но затем их пути расходятся и более уже не пересекаются: Пирогова мы не встретим даже на похоронах его друга-художника). Обе истории явились нам выраженными стилизациями в разных жанрах, так что простого последовательного присоединения второй к первой было достаточно для разрушения смысла первой как представительницы своего жанра (бурлеск второй истории уничтожал романтизм первой). Теперь мы можем утверждать, что эта двойная перспектива разворачивается на фоне всего цикла.
Таким образом, «Нос», помещенный на второе место, предстает продолжением приключений Пирогова (тут возникает схожий тип смешного и тривиального персонажа). «Портрет» продолжает линию Пискарева, поскольку его герой Чартков тоже художник. «Коляска», как нам представляется, воссоздает тип Пирогова (уже в провинции) в образе Чертокуцкого. Что касается «Записок сумасшедшего», можно увидеть их логическим завершением действия, которое производит город, описанный в начале цикла. Конечно, Поприщин не художник. Однако он чуть было не стал музыкантом, как видно из черновых набросков повести, которая называлась «Записки сумасшедшего музыканта» (еще один типичный персонаж романтической литературы). Но в рамках общей структуры не следовало помещать еще одного представителя искусства во вторую часть цикла: герой должен был быть чиновником, представителем заведенного Петром Великим порядка. Это вполне логично, поскольку формула «петербургский художник» — оксюморон. Художником в Петербурге быть невозможно. Зато можно быть чиновником, поскольку для переписывания административных бумаг не надо иметь острого взгляда (Акакий Акакиевич подслеповат), смена героя происходит именно в «Шинели», положение которой в середине цикла становится понятным, и заканчивается безумием такого же чиновника, описанным в «Записках сумасшедшего» (Акакий Акакиевич и Поприщин имеют одно и то же звание в Табели о рангах). Отныне становится ощутимой степень разрушения, которое оказывает город наличность. Поприщину кажется, что он в Испании. Но вымышленный им Юг есть не что иное, как дом сумасшедших, где наш герой подвергается жестокому обращению. Понадобится истинный свет юга, чтобы обрести гармонию. И это свет Рима.
«Петербургские повести» являют собой систему зеркал, и чтобы избежать безумия в этой системе, надо покинуть город Петра Великого. Даже маленькая повесть «Коляска» служит тому подтверждением: здесь присутствие столицы может быть объяснено тем фактом, что Петербург тоже является метонимией и представляет собой всю непоколебимую Российскую империю, а Российская империя это также и провинция, которая служит Чичикову плацдармом для его махинаций в «Мертвых душах» и которая впадает в ступор при появлении самозванца-ревизора («Ревизор»), прибывшего, как водится, из Петербурга, где все обман. Итак, «Коляска» занимает именно свое место в ансамбле, который все же может называться «Петербургские повести», если спасение обретается… в Риме!
Единый текстИз этой структуры проявляется мало-помалу истинная история. Разумеется, она тоже распалась на части, как и вся описанная действительность, но она существует. И не только общее устройство цикла требует такой интерпретации: она определяется и деталями текста. Внимательное чтение показывает, что множество мотивов переходят из повести в повесть, получают новое развитие и укрепляют всю конструкцию. Например, Пирогов обожает театр, кроме разве некоторых водевилей, которые находит ниже своего уровня, но как раз их обожает Поприщин. Комнаты двух художников, Пискарева и Чарткова, очень схожи своим беспорядком (еще одна рассыпавшаяся реальность, которую художник не в силах воссоединить). Ковалев должен отказаться от понюшки табака: табакерку с изображением дамы ему протянул чиновник из газетной экспедиции (нет носа — нет табака, нет женщины!), а с этой табакеркой перекликается другая, Петровича, портного из «Шинели», украшенная на сей раз изображением генерала, и третья, упомянутая мимоходом в «Коляске», где один из двух главных персонажей… генерал (не говоря уже о шутке с табаком в «Шинели» _ он был извлечен будочником из сапога, чтобы «освежить на время шесть раз на веку примороженный нос свой»: 148). Усам, встреченным на Невском проспекте, отвечают в «Коляске» усы солдата из конюшни, которые становятся частью, почти столь же независимой от их владельца, как и нос Ковалева, когда солдат ведет за узду «вздрагивавшую и пугавшуюся лошадь, которая, вдруг подняв голову, чуть не подняла вверх присевшего к земле солдата вместе с его усами» (156). Район Коломны описан в «Портрете», но именно в нем исчезает призрак Акакия Акакиевича в конце «Шинели». Именно на Невский проспект, о котором нам уже известно, что он лжет, переезжает Чартков в «Портрете», когда он начинает лгать себе своей живописью. Там и сям мы видим башмаки, от которых произойдет фамилия Акакия Акакиевича; в первой части «Портрета» мы встречаем башмаки, шинели и нос. У цирюльника из «Носа» есть коллега в «Записках сумасшедшего». Нам встречаются три демонических персонажа, первые два из них восточного типа: персиянин в «Невском проспекте», готовый, заметим мимоходом, уступить Пискареву опиум в обмен на портрет, который тот должен для него написать; ростовщик, который заказывает злополучный портрет; да и портной Петрович в «Шинели», похожий на «турецкого пашу» (128) (на самом деле всего лишь сидевший по-турецки за работой), становится для бедного Акакия Акакиевича демонической фигурой.
Можно продолжить перечисление мотивов, переходящих из повести в повесть. Наиболее заметный из них — все тот же знаменитый нос. Прежде всего мы видим его, когда Шиллер просит своего приятеля Гофмана отрезать нос, который выходит ему в копеечку из-за расходов на табак и притом совершенно бесполезен (в отличие от Ковалева, который считает его предметом, необходимым для женитьбы). Мы также видели, что неслучайно следующая повесть рассказывает историю о носе, вырвавшемся на свободу. К слову сказать, нос Ковалева, прежде чем покинуть своего хозяина, был украшен маленьким прыщиком, который тоже свободно гуляет из текста в текст, исчезнув с носа коллежского асессора, в следующей повести, «Портрете», мы обнаруживаем у девицы, которую рисует Чартков, маленький прыщик на лбу (не отраженный на холсте художником, поскольку все вокруг ложь), и этот же прыщ нам слышится в фамилии героя «Записок сумасшедшего» (в его фамилии хорошо слышно слово «поприще», но можно расслышать и отзвук «прыща»). Кроме того, множество носов возникают в устойчивых выражениях: мать предполагаемой невесты Ковалева отвечает на его безумное требование вернуть ему его пропавший орган, что она никогда не намеревалась его «оставить с носом» (61); в «Коляске» о Чертокуцком сказано, что он «пронюхивал носом, где стоял кавалерийский полк» (154). Все эти носы, которые жестоко атакует «сильный враг», «наш северный мороз» (126) («Шинель»), гуляют по всему циклу, и вполне логично, что они занимают важное место и в предпоследней повести (или, скорее, последней, если считать «Рим» эпилогом «Петербургских повестей»), «Записках сумасшедшего». Поприщин, гулявший инкогнито все по тому же Невскому проспекту в один из дней «без числа» (180) и мечтавший пройтись по нему в королевской мантии, которую собирался заказать портному (отголосок «Шинели»), но затем решил соорудить сам из старого вицмундира (как предлагал Петровичу Акакий Акакиевич) — итак, Поприщин погружается в бред о носах, отделившихся от их владельцев, и бред этот был уже подготовлен приключениями Ковалева. Но этот мотив можно проследить и в прочих местах «Записок». 4 октября, когда видит, остолбенев, что дочь его начальника уронила носовой платок, он пишет: «Я кинулся со всех ног, подскользнулся на проклятом паркете и чуть-чуть не расклеил носа» (167); 12 ноября, когда он ищет дом собачонки, которая состоит в переписке с собачкой дочери его начальника, ему приходится идти в Мещанскую улицу (кстати, тут живет и Шиллер!), где так разит капустой, что он вынужден «заткнуть нос» (171). Затем мы видим, как собачонка защищает свою собственность от Поприщина, пытающегося отобрать письма; «мерзкая, чуть не схватила меня зубами за нос» (Там же). Когда он оказывается в Мадриде, то есть в сумасшедшем доме, все эти выражения материализуются в бред: наш герой хочет спасти луну, которую делает хромой бочар из Гамбурга, и делает «прескверно», так что приходится «затыкать нос». Он поясняет:
И оттого самая луна — такой нежный шар, что люди никак не могут жить, и там теперь живут только одни носы. И потому-то самому мы не можем видеть носов своих, ибо они все находятся в луне. И когда я вообразил, что земля вещество тяжелое и может насевши размолоть в муку носы наши, то мною овладело такое беспокойство, что я, надевши чулки и башмаки, поспешил в залу государственного совета, с тем чтоб дать приказ полиции не допустить земле сесть на луну.