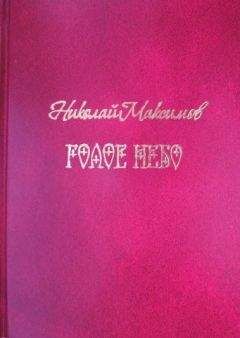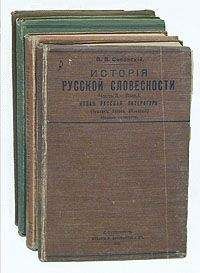Жан-Филипп Жаккар - Литература как таковая. От Набокова к Пушкину: Избранные работы о русской словесности
И оттого самая луна — такой нежный шар, что люди никак не могут жить, и там теперь живут только одни носы. И потому-то самому мы не можем видеть носов своих, ибо они все находятся в луне. И когда я вообразил, что земля вещество тяжелое и может насевши размолоть в муку носы наши, то мною овладело такое беспокойство, что я, надевши чулки и башмаки, поспешил в залу государственного совета, с тем чтоб дать приказ полиции не допустить земле сесть на луну.
(182)В таком контексте вполне логично, что завершающий «нос», прежде чем мы перенесемся в Рим, появится в последней «петербургской» фразе: «А знаете ли, что у алжирского дея под самым носом шишка?» (184).
Вот куда завела нас исходная синекдоха, символ распада действительности, который приводит к распаду личности. Круг замкнулся. В своей последней тираде Поприщин, который был до сих пор всего лишь свихнувшимся маленьким чиновником, становится трагическим персонажем: ему остается только бегство в бесконечность, вдаль от петербургского тумана, к «матушке», к свету, к Италии: «сизый туман стелется под ногами; струна звенит в тумане; с одной стороны море, с другой Италия» (Там же).
Художественный манифестНити, протянутые между повестями, образуют единую смысловую ткань по всему сборнику. Среди мотивов, укрепляющих структуру и создающих глобальный смысл, есть еще один, и он заслуживает особого внимания. Речь идет об аллюзиях на литературные диспуты той эпохи, и они ведут нас к фигуре Пушкина, неявной, но центральной. Поприщин, как мы узнаем из записи его дневника от 4 октября, читает «Северную пчелу», очень популярную бульварную газету того времени, по выпускам которой он следит за событиями в Испании. Эту же газету мы видим и в руках Пирогова: ее название не упоминается, но о нем можно догадаться по именам двух редакторов: Н. И. Греча и Ф. В. Булгарина. В «Носе» служащий газетной экспедиции, где Ковалев намерен дать объявление о розыске носа, предлагает ему, ввиду фантастичности рассказанной Ковалевым истории, обратиться к тому, «кто имеет искусное перо <…> и напечатать статейку» (52) в той же «Северной пчеле». А ведь эта газета постоянно атаковала Пушкина (да и Гоголя тоже), и она всегда маячит рядом с именем поэта. Возникает немалая ирония, когда рассказчик небрежно замечает о посредственных людях, вроде Пирогова, что они «любят потолковать об литературе; хвалят Булгарина, Пушкина и Греча» (28). Бедный Пушкин: он оказался окруженным своими гонителями. Столь же неуместно упоминание имени Пушкина в записках Поприщина, который приписывает поэту никчемные стишки, принадлежащие забытому автору XVIII века.
Имя Пушкина возникает, конечно, неслучайно, и игра аллюзий увлекает нас к иному смысловому слою, который указывает внимательному читателю, что «Петербургские повести» являются поистине литературным и художественным манифестом. Автор «Медного всадника» возникает — опять-таки, совершенно симметричным образом — и в конце первой части «Портрета», и в конце его второй части. Когда Чартков в приступе безумия начинал крушить картины, которые он покупал с этой единственной целью, то «казалось, в нем олицетворился тот страшный демон, которого идеально изобразил Пушкин» (100). И что же делает демон, давший свое имя стихотворению Пушкина? Он учит молодого романтического поэта, что красота — всего лишь мечты (мы узнаем здесь жестокий опыт Пискарева). В конце второй части Пушкин возникает вновь, на сей раз в виде скрытой цитаты, когда говорится о полотне, написанном автором дьявольского портрета после очистительной аскезы и изображающем «рождество Иисуса». В этом отрывке описан «глубокий разум в очах божественного младенца» (117), над которым склоняется Богоматерь. Выражение взято из сонета Пушкина «Мадонна» (1830 г.), где говорится о знаменитой Мадонне Перуджино.
В линии, протянутой от демона (зажигавшего фонари в «Невском проспекте») к Мадонне, понемногу вырисовывается разговор об искусстве, тонкая разработка которого ведет очень далеко. В нашем цикле есть три портрета Мадонны: Санта Мариа деи Бьянки в Пьеве — с ней Пискарев сравнивает незнакомку, которой он увлечется; Богоматерь кисти иконописца, аскезой преодолевшего дьявольское начало, которое может проникнуть в произведение искусства и которое проникло, силой гения этого художника, в злополучный портрет; и, наконец, Аннунциата, земная Мадонна, воплощение античной красоты, которую уже нет надобности воплощать. Это абсолютный ответ смешной Психее Чарткова, который уступил лжи льстивого изображения модели, рисуя портрет прыщавой столичной дурочки. И лишь в Риме будет побеждена эта ложь, порожденная городом с первой же повести цикла. Появление Вечного города, впрочем, уже было подготовлено: именно там была написана картина, потрясшая Чарткова и открывшая ему глаза.
О чем же хотел сказать Гоголь? За пределами рассказанных историй, которые то неприхотливы, то невероятны, за пределами стилистической виртуозности, которая отодвигает эти истории на задний план, мы находим настоящий художественный манифест, применимый и к живописи, и к литературе, и основание его надо искать в искусстве религиозном. Недаром столь значительное место отводится в «Портрете» великим мастерам Возрождения с Рафаэлем во главе: уж они-то умели видеть.
Мы то и дело возвращаемся к проблеме видения. Перечитывая повести, поражаешься, насколько вездесуща эта тема. Все плохо видят, и не только исторгнутый болотами петербургский туман тому причиной. У Пискарева, который не смог разглядеть, что перед ним проститутка, а вовсе не Мадонна, проблемы зрения еще усилятся после принятия опиума; Петрович, пресловутый портной, крив; Акакий Акакиевич видит плохо из-за бесконечного переписывания бумаг; квартальный надзиратель, перехвативший нос при его попытке удрать за границу, совершенно близорук Все это проделки дьявола, того демона, вызванного к жизни Пушкиным который «показывает все не в настоящем виде». Таким образом, поставленный вопрос — это вопрос представления действительности и, a posteriori, истины в искусстве. Представляя рассыпавшийся мир, Гоголь показывает бессилие реалистического искусства, бессмысленность скопления элементов, ничем не связанных: в таком контексте сами по себе глаза могут стать дьявольскими («Портрет»). Чтобы преодолеть эту раздробленность, Гоголь покидает Петербург — не только в сборнике повестей, но и в действительности (с 1836 года он живет за границей). Он едет именно в Рим, место добровольной ссылки своего друга, художника Александра Иванова, работавшего в то время над знаменитым полотном «Явление Христа народу». В Рим, о котором Гоголь говорил в одном из писем, что это «родина <его> души»[566], он отправится на поиски сути религиозного искусства, где светится «глубокий разум в очах божественного младенца».
Мудрость романаМ. Кундера пишет, что «великие романы всегда несколько умнее чем их авторы»: должно быть, есть некая «мудрость романа», «надличностная мудрость», которую навевает романисту «иной голос»[567]. Несомненно, этот самый голос нашептал Гоголю композицию третьего тома его сочинений. Можно ли сказать, что «Петербургские повести» — это главы единого романа? Или единой «поэмы», согласно определению, данному самим писателем «Мертвым душам» (законченным одновременно с «Шинелью»; Гоголь пишет их на той же бумаге, что и «Рим»… и в Риме)? Такой взгляд вполне возможен. Во всяком случае, в структуре сборника есть особая «мудрость», голос, который должен быть слышен внимательному читателю.
Достоевскому, одному из лучших читателей своего знаменитого предшественника, приписывают слова: «Все мы вышли из гоголевской шинели», — той самой «Шинели», которая занимает центральное положение в зеркальной структуре цикла. Конечно, Достоевский слышал этот голос. Факт тем более замечателен, что критики социологической направленности, и первый их представитель Белинский, авторитет которого признавался почти безоговорочно, сводили творчество писателя к обвинению режима. Будучи «реалистом», Гоголь показывал, по Белинскому, самые неприглядные стороны самодержавия. «Мертвые души» приветствуются критиком как обвинение крепостничества. Эта мысль была затем механически подхвачена так называемой «радикальной» критикой XIX века, а позднее и советской. В том же духе о «Шинели» будут говорить, что она направлена против мощной административной машины Николая I, безжалостно давящей «маленького человека». Чего только не прочтешь о знаменитой фразе, которую произносит Акакий Акакиевич в ответ на насмешки коллег: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» (123). Эта фраза, произнесенная тоном, в котором «слышалось что-то такое преклоняющее на жалость», что недавно поступивший на службу чиновник услышал в ней: «Я брат твой» (123–124), по мнению критика, была криком протеста, выражением той «гуманности», которую Белинский призывал в литературу и которую видел у Гоголя. Какое разочарование постигло его, когда в 1847 году, вместо ожидаемой всеми второй части «Мертвых душ», Гоголь публикует то, что считал своим великим поучительным произведением, «Выбранные места из переписки с друзьями». Возмущенный Белинский увидит в этом сборнике писем лишь мешанину из проповедей «curé du village»[568], защитника патриархальных порядков, угодных Богу и самодержавию. Это было предательством, и Белинский в письме, которое получит большое хождение в политических и литературных кругах, призовет Гоголя порадоваться «вместе <с ним> падению <его> книги»[569], этого «тяжкого греха», который он мог бы «искупить новыми творениями, которые бы напомнили <его> прежние»[570].