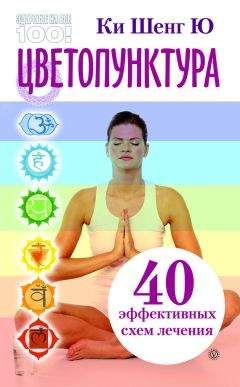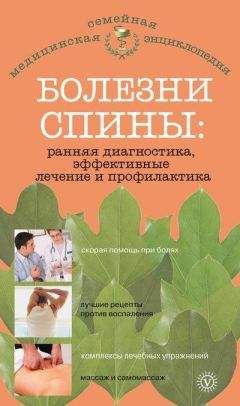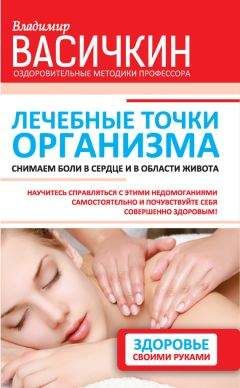Лидия Гинзбург - О психологической прозе. О литературном герое (сборник)
Подлинным откровением толстовского гения явились изображения некоторых общих психических состояний, перерастающих единичные сознания и связующих их в единство совместно переживаемой жизни. Это ряд сцен, военных, народных, а также семейных – охота, отрадненские святки, отъезд Ростовых из Москвы, сборы на бал, приезд Николая в первый отпуск и проч. В сражении, или на охоте, или в момент, когда семья встречает вернувшегося в отпуск сына, – все действующие лица действуют у Толстого согласно своим характерам. Но самое важное для нас в этих сценах – это сражение, или охота, или возвращение молодого офицера в родной дом, как психологический разрез общей жизни.
Отрадненские святки с ряжеными и поездкой к соседям включены в душевное состояние Николая Ростова, но восприятие Николая оказывается обязательным для всех переживающих «волшебную ночь», и, несмотря на свою фантастичность, оно совершенно реально. Не потому, чтобы в сцене святочной поездки было что-либо наглядно описано, – напротив того, вместо деревни и помещичьего дома ряженые видят «волшебный лес с переливающимися черными тенями с блестками алмазов и с какой-то анфиладой мраморных ступеней, и какие-то серебряные крыши волшебных зданий…», – а потому, что предметом изображения являются здесь не отдельные люди, не природа, не обстановка, но именно общее чувство жизни. Общую жизнь в конкретном ее выражении Толстой мыслил как жизнь народную, национальную. Поэтому «Война и мир» – и в военном, и в мирном ее плане – особенно адекватна этой художественной концепции Толстого. Элементы художественной системы Толстого тесно взаимосвязаны, и одно требование порождает другое. Изображение общей жизни – это тем самым изображение процессов. А процессы предполагают текучесть сознания. О толстовской текучести говорили очень много, и сам он о ней говорил всю жизнь, от юношеских дневников до «Воскресения», до дневника 1898 года, где есть запись (19 марта): «Одно из величайших заблуждений при суждениях о человеке в том, что мы называем, определяем человека умным, глупым, добрым, злым, сильным, слабым, а человек есть все: все возможности, есть текучее вещество…»
Напомню еще раз: декларации писателей очень важны, но они не избавляют нас от необходимости исследовать факты независимо от деклараций. Писатель ведь тоже текуч; он решает разные задачи, и разным задачам служат его теоретические высказывания. Толстой мыслил не только процессами, но и свойствами. Об этом свидетельствуют хотя бы первоначальные планы и конспекты «Войны и мира»: «Старший брат Аркадий умер, оставив вдову, умную, чопорную, и одного сына – Бориса, чистого, глуповатого рыцаря-красавца. Другой брат в 11 году был министром и имел двух сыновей: Ивана – гордеца (mordent), дипломата и Петра – кутилу, сильного, дерзкого, решительного, непостоянного, нетвердого, но честного… Волконский – гордый, дельный, разумный барин (?); его дочь – старая дева, спасающаяся самоотвержением, даровитая музыкантша, поэтическая умная аристократка, недоступная пошлости житейской. Вдова Аркадия – кузина и друг детства глупого и доброго графа Толстого… У него сын Николай – даровитый, ограниченный и три дочери: старшая блондинка, Лиза, умна, хороша, дисграциозна, копотлива, вторая – Александра, веселая, беззаботная, любящая, и третья – Наталия, грациозный, поэтический бесенок. – Анатоль, сын сестры гр-ни Т. – молодой пройдоха».
Здесь предсказаны уже свойства ряда действующих лиц: Пьера Безухова, старого князя Болконского, княжны Марьи, графа Ильи Андреевича, Николая, Веры, Наташи Ростовых, Анатоля Курагина. В конспекте представлен тот самый способ характеристики, который Толстой осуждал в своих дневниках, и ранних и поздних, но которым в своих романах практически пользовался, – конечно, по сравнению с конспектами, в форме гораздо более сложной и гибкой. Среди всех процессов и модификаций Толстому нужно было остановить, зафиксировать характер как подвижную, изменяющуюся, но узнаваемую структуру. Это нельзя было сделать без устойчивых слагаемых, то есть свойств. Более того, апперцепция персонажа обеспечена у Толстого наличием неких социально-типологических каркасов. В персонаж как бы заложена схема, до крайности осложненная, скрытая индивидуальным наполнением. Читатель в Каренине узнает бюрократа, во Вронском – блестящего гвардейца, в Левине – думающего помещика его времени, в Николае Ростове – бездумного помещика его времени. Но Толстой, пользуясь схемой, одновременно ее оспаривает; он с корнем вырывает возможности схематического применения схемы. И трактовать, скажем (иногда это делали), Каренина как бездушную бюрократическую машину, а Вронского как светского пошляка – это значит увидеть предложенную Толстым социально-типологическую формулу и не заметить толстовское динамическое ее решение.
Как же, однако, сочетаются в системе Толстого устойчивость и текучесть? Текучесть толстовского персонажа – это не отсутствие характера, а особое отношение между свойствами этого характера, мотивами поступков и самими поступками. В литературе дореалистической преобладало однозначное отношение между этими элементами. Свойства порождали определенные мотивы поведения, а поступок вытекал из этих мотивов. Реализм XIX века, с его пристальным интересом к обусловленности поведения, показал, что аналогичные действия могут иметь разные мотивы, что одно и то же побуждение может в зависимости от обстоятельств привести к разным последствиям. Именно Толстой с небывалой еще остротой – теоретически и практически – поставил эти вопросы, потому что они были для него коренными вопросами возможности изображения текучего сознания (при сохранении характера). Персонажи Толстого бывают умными, храбрыми, добрыми, но это не значит, что все побуждения, возникающие в их сознании, соответствуют этим качествам. Характер с его постоянными свойствами – только один из элементов многослойной ситуации, всякий раз определяющей поведение. Исследуемые Толстым процессы – это и есть непрерывная смена взаимосвязанных ситуаций.
Рационализм XVII века разработал стройную систему человеческих свойств. Более раннее, ренессансное мышление в своем подходе к человеку было гибче, индивидуалистичнее, эмпиричнее. Удивительные психологические прозрения и предсказания принадлежат Монтеню, и это существенно в данной связи, потому что он был одним из самых важных для Толстого и любимейших его писателей.
Сквозь «Опыты» Монтеня упорно проходит мысль о текучести человека, хотя он и не пользуется этим определением. Мысль об изменчивости всего сущего в какой-то мере была подсказана Монтеню античными авторами – сведения об учении Гераклита и его последователей он должен был почерпнуть из хорошо знакомых ему сочинений Платона, Аристотеля, Плутарха. Мысль эта коренится и в философских предпосылках мировоззрения самого Монтеня, в его эмпиризме и скептицизме, в его сенсуализме, побуждавшем его искать материальную, чувственную обусловленность реакций человека на внешний мир. Гениальная сила наблюдения придала этим концепциям чрезвычайную психологическую конкретность. Характерны в «Опытах» самые названия отдельных глав: «Различными средствами можно достичь одного и того же» (в этой главе речь идет о том, что под воздействием разных впечатлений те же люди совершают и жестокие, и великодушные поступки), «При одних и тех же намерениях воспоследовать может разное», «О том, что мы смеемся и плачем от одного и того же», «О непостоянстве наших поступков» и т. д.
Монтень уже знал, что человек не имеет неподвижных свойств, что поступки определяются обстоятельствами, а ценность вещей в какой-то мере зависит от их положения в контексте данного субъективного сознания. «Страдание, – сказал Монтень, – занимает в нас не больше места, чем сколько мы ему предоставляем» (I, 74). И он прямо говорит о «текучести» сознания: «Сколько бы различных побуждений ни волновало ее (душу человека. – Л. Г.), среди них есть такое, которое неизменно одерживает верх. Впрочем, его победа никогда не бывает настолько решительной, чтобы, в силу податливости и изменчивости нашей души, более слабые побуждения не отвоевывали себе при случае места и не добивались, в свою очередь, кратковременного преобладания. И по этой причине одна и та же вещь, как мы видим, может заставить и смеяться и плакать…» (I, 295).
Идея текучести расторгала тождество поступка и мотива. Поступки, «исполненные добродетели», «на деле не таковы, ибо нас влекут к ним выгода, слава, страх, привычка и другие столь же далекие от добродетели побуждения. Справедливость, доблесть, доброта, которые мы обнаруживаем при этом, могут быть названы так лишь теми, кто смотрит со стороны, на основании того облика, в каком они предстают на людях, но для самого деятеля это никоим образом не добродетель: он преследует совершенно иные цели, им руководят иные побудительные причины» (I, 290).