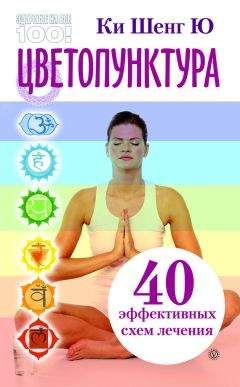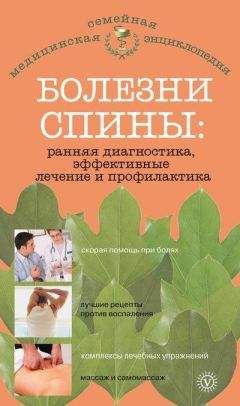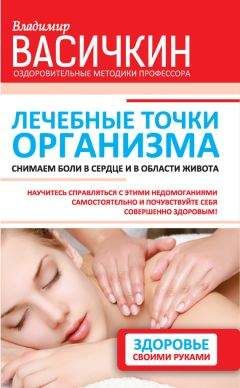Лидия Гинзбург - О психологической прозе. О литературном герое (сборник)
А вот и конкретный пример к этим теоретическим размышлениям: «Крайняя степень страха выражается в том, что, поддаваясь ему, мы даже проникаемся той самой храбростью, которой он нас лишил в минуту, когда требовалось исполнить свой долг и защитить свою честь. При первом крупном поражении римлян во время войны с Ганнибалом… один римский отряд численностью до десяти тысяч пехоты, оказавшись во власти страха и не видя, в своем малодушии, иного пути спасения, бросился напролом, в самую гущу врагов, и пробился сквозь них с вызывающей изумление дерзостью, нанеся тяжелый урон карфагенянам. Таким образом, он купил себе возможность позорно бежать за ту же самую цену, которою мог бы купить блистательную победу» (I, 96–97). «Можно ли назвать храбрым коня, который, боясь плети, отважно бросается под кручу…» – писал молодой Толстой в рассказе «Набег» (1852), посвященном столь волновавшей его проблеме храбрости.
Отвергая формальное единство поступка, его мотива и тем самым его этической оценки – единство, присущее более позднему классическому рационализму, – Монтень, соответственно, отрицает правомерность однозначных определений поведения: «Я считаю крайне затруднительным не только увязывать наши действия одно с другим, но и правильно обозначать каждое из них по одному главному признаку, настолько двусмысленны они и столь пестро отливают при различном освещении» (III, 370). Монтень, однако, видит человека не только в его текучести, в изменчивости его реакций и ощущений, но и в неких устойчивых биологических и социальных его чертах. В главе «О раскаянии» отчетливо представлены оба подхода. «Я не в силах закрепить изображаемый мною предмет… Я беру его таким, каков он предо мной в то мгновение, когда занимает меня… Я рисую его в движении… Нужно помнить о том, что мое повествование относится к определенному часу. Я могу вскоре перемениться, и не только непроизвольно, но и намеренно» (III, 26). Но далее в той же главе Монтень размышляет об «устойчивом состоянии» людей: «Нет человека, который, если только он всматривается в себя, не открыл бы в себе некоей собственной сущности, сущности, определяющей его поведение и противоборствующей воспитанию, а также буре враждебных ему страстей» (III, 34–35). Монтень не пытался примирить противоречие между текучестью и устойчивостью сознания. Но возможность примирения подсказана ходом его мысли: Монтень признает устойчивость неких первичных элементов личности, которые в изменчивых ситуациях могут порождать разные формы поведения.
Монтень, наряду с Руссо, был одним из важнейших источников толстовского понимания жизни. Толстой, разумеется, не повторяет Монтеня. Понадобился еще трехсотлетний опыт человечества, научный и художественный, и необъятный гений Толстого, чтобы монтеневская текучесть претворилась в реалистическую диалектику души. У Монтеня пронзительные постижения закономерностей душевной жизни, отвлеченных от единичного, конкретного человека, или отдельных состояний и черт этого человека. Толстой же постигал соотношение текучего и устойчивого в личности, взятой в еще невиданной полноте и конкретности ее бытия, духовного и физического, социального, бытового.
Персонаж Толстого – сложное, многомерное устройство. По сравнению с маской, типом классической комедии, с идеальным образом романтизма дотолстовский реалистический характер – это уже взаимодействие разных, противоречивых в своей многосторонней обусловленности элементов. И все же в дотолстовской прозе характер был всегда целеустремленным, предназначенным к выполнению определенной задачи – будь то изображение социальной его природы, некоего психологического комплекса («Воспитание чувств»), нового рода исторической типологии (как у Тургенева) и проч. Этого нельзя сказать об основных персонажах Толстого. Каждый из них в своем роде универсален, он несет разные функции, выполняет многие задачи. И эта многомерность человека – так же как изображение общей жизни – создает ту могучую иллюзию подлинности, которая до сих пор владеет читателями Толстого.
Посредством одного и того же персонажа Толстой исследует разные области бытия, в разных аспектах. Этому соответствует сложный состав персонажа. В нем можно различить первичные органические свойства, еще не прошедшие этическую обработку, свойства, социально выработанные, и даже социальные и типологические схемы, в остром толстовском преломлении. Персонаж этот – фокус разнообразных процессов, он – характер, то есть взаимодействие психологических элементов, и он же носитель общей жизни, и его же поведение распадается на множество ситуаций, из которых каждая представляет собой своего рода структурное единство. Парадоксальность Толстого – только маска динамической внутренней логики его характеров; из основных биологических и социальных предпосылок персонажа развертывается цепочка его производных свойств.
Универсальность задач, множественность функций и составных элементов представлена, например, в Пьере Безухове. У Пьера есть органические свойства (начиная от физической монументальности и силы): чувственность и безвольная мягкость, доброта, то есть повышенная способность к жалости и состраданию, и от отца унаследованная способность к сокрушительным порывам бешенства (возмущенный низостью Элен, «Пьер почувствовал увлечение и прелесть бешенства»). Эти первичные свойства – стереотипы органических, непосредственных реакций на окружающее, и Толстой не сомневается в их устойчивости. Они взаимодействуют с вторичными социально-историческими определениями: Пьер – воспитанный за границей, образованный русский барин преддекабристской поры, просветитель, будущий декабрист.
У Пьера есть не только твердый социальный каркас, но и типологический. Этот образ подключается к традиционному ряду рассеянных чудаков, и он включен вместе с тем в другой ряд, в ряд правдоискателей Толстого, со всеми особенностями толстовских решений нравственных вопросов.
Во время церемонии посвящения в масоны Пьеру предлагают открыть его главное «пристрастие». «Пьер помолчал, отыскивая. „Вино? Объедение? Праздность? Леность? Горячность? Злоба? Женщины?“ – перебирал он свои пороки, мысленно взвешивая их и не зная, которому отдать преимущество». В кругу Курагина и Долохова Пьер ведет развратную и праздную жизнь. Но в системе Толстого это не означает, что Пьер – развратник или бездельник. Его пороки – производное от взаимодействия органической чувственности, наследственной необузданности с навыками барской среды[199]. Круг Курагина и Долохова – это преходящая ситуация. Но и то, что постиг Пьер в пору своего сближения с Каратаевым, – тоже преходящий опыт. Потому что в «Эпилоге» «Войны и мира» Пьер опять просвещенный барин, мечтающий «дать новое направление всему русскому обществу и всему миру». Он помнит Каратаева, но он не может быть тем самым человеком, каким он был, когда шел рядом с Каратаевым, – босой, голодный и покрытый вшами. Испытание кончилось; жизнь, как натянутая до предела и вновь отпущенная резина, возвращается на свое место. Толстой показал, как рядом с законом памяти работает в человеке закон забвения, необходимого для того, чтобы расчищать место новой обусловленности, заново овладевающей человеком.
Из соотнесенности биологического и социального, устойчивого и текучего, первичного и производного возникает характер Пьера Безухова. Но, как и каждый из основных его персонажей, Пьер нужен Толстому не только как данный характер. Через Пьера познаются процессы самой жизни, притом взятой в предельном ее напряжении. Пьер – один из тех, через кого дана война или смертная казнь. Пьер смотрит на расстрел русских пленных – думая, что сам сейчас будет расстрелян, – и художественный фокус с душевного состояния Пьера перемещается на казнь, на самый процесс бессмысленного убийства беззащитных и невиновных людей. Через ряд перемещающихся фокусов проходит толстовский персонаж, предназначенный решать разные задачи художественного познания.
С первых же литературных шагов Толстого его метод был воспринят как сугубо аналитический. Но подлинная специфика Толстого – это в своем роде единственное сочетание аналитического начала с синтетическим. Нет, вероятно, в мировой литературе более мощного изображения явлений жизни в их психологической целостности и в плотской их трехмерности, материальности.
В трилогии или в рассказе «Севастополь в мае» Толстым всецело владел аналитический интерес. В «Казаках», в «Войне и мире» особенно значимы синтетические образы. В «Войне и мире» этого требовала сама эпичность произведения, его эпохальный колорит. Есть ряд фигур, которые в своей исторической характерности даны преимущественно извне, как целостный образ, – старый князь Болконский, например, граф Илья Андреевич Ростов и многие другие. Но и в героях, исследуемых изнутри, чрезвычайно уплотнена неразложимая оболочка исторической и человеческой характерности.