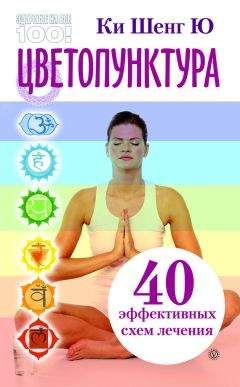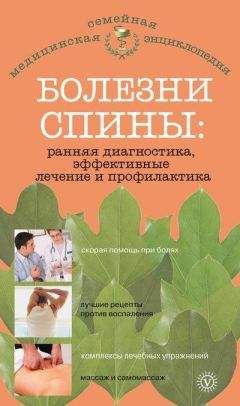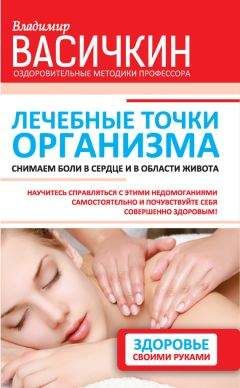Лидия Гинзбург - О психологической прозе. О литературном герое (сборник)
Л. В. Пумпянский в статье о романах Тургенева писал: «Это поистине наиболее социальный вид литературы, потому что через него совершается процесс самоотчета общества; через него общество начинает понимать, какие силы, какие породы людей, какие типы и категории деятелей оно имеет в своем распоряжении, иными словами – отдает себе отчет в человеческом материале своих двигателей, своих деятелей и вождей»[191].
Тургенев в своих романах действительно хотел создать «беспримесную», устойчивую модель исторического характера. Это и есть основной принцип связи, подчиняющий себе другие элементы его художественных построений. История проникла внутрь персонажа и работает изнутри. Его свойства порождены данной исторической ситуацией и вне этого не имеют смысла. Что, например, получится, если из обличающей лежневской характеристики Рудина извлечь набор «общечеловеческих» свойств? «Он замечательно умный человек, хотя в сущности пустой… Он деспот в душе, ленив, не очень сведущ… Любит пожить на чужой счет, разыгрывает роль… это все в порядке вещей. Но дурно то, что он холоден, как лед… и знает это и прикидывается пламенным… он играет опасную игру – опасную не для него, разумеется, сам копейки, волоска не ставит на карту – а другие ставят душу… Он красноречив; только красноречие его не русское». Здесь характеристика Рудина более всего приближена к Бакунину; особенно к Бакунину в восприятии Белинского. С письмами Белинского есть почти текстуальные совпадения. Тургенев сам хорошо знал Бакунина, но бакунинская тема, несомненно, всплывала в беседах молодого Тургенева с Белинским. Если отвлечься от этих соображений, то какого, собственно, человека изображает Лежнев? Умный, пустой, холодный, деспот, фразер, позер, бесцеремонный в денежных делах и т. д. Но все это не адекватно Рудину. Непохоже. В контексте романа этот подбор свойств не складывается в образ – без ориентации на Бакунина, на кружки и умственную жизнь 30-х годов, на людей 40-х годов. Изображенные Лежневым свойства Рудина – это особые свойства, по самой своей фактуре исторические. Его слабохарактерность и нерешительность – это рефлексия, исследованная Белинским; его фразерство – не вообще фразерство, но те ходули и фраза, с которыми враждовал Станкевич; его деспотизм порожден формами кружкового общения.
Честолюбие Растиньяка по своей исторической природе отличается от честолюбия Жюльена Сореля. Бесхарактерность Люсьена или меланхолический темперамент Фредерика Моро испытывают давление времени, отпечатавшего на них неизгладимый след. И все же о каждом из них можно сказать: «он честолюбец», «он меланхолик» и т. д. Но, сказав о Рудине: «он деспот, болтун, человек, любящий жить на чужой счет», – мы никакой структуры не получим. Свойства Рудина не существуют вне его исторической функции русского кружкового идеолога 30-х годов.
В «Дворянском гнезде» Михалевич в пылу ночного русского спора подыскивает формулу исторического характера для Лаврецкого. «Я теперь нашел, как тебя назвать… ты не скептик, не разочарованный, не вольтериянец, ты – байбак, и ты злостный байбак, байбак с сознаньем, не наивный байбак. Наивные байбаки лежат себе на печи и ничего не делают, потому что не умеют ничего делать; они и не думают ничего, а ты мыслящий человек – и лежишь; ты мог бы что-нибудь делать – и ничего не делаешь; лежишь сытым брюхом кверху и говоришь: так оно и следует, лежать-то, потому что все, что люди ни делают, – все вздор и ни к чему не ведущая чепуха». Скептик, вольтерьянец, разочарованный – все это модели исторического характера, имевшие мировое значение и хорошо знакомые русскому обществу. В этом ряду просторечное словечко байбак получает новый смысловой заряд. Это уже не обломовщина в гончаровском бытовом смысле, но та историческая, идеологическая ипостась обломовщины, которая позволила Добролюбову зачислить в обломовы всех «лишних людей» русской литературы.
Базарова, в его эпохальном качестве, Тургенев настойчиво представляет читателю с первого же мгновения его появления в усадьбе Кирсановых. «Николай Петрович… подойдя к человеку высокого роста в длинном балахоне с кистями… крепко стиснул его обнаженную красную руку, которую тот не сразу ему подал». «Евгений Васильев» (не Васильевич) – представляется Базаров Николаю Петровичу. «Главное, надо теперь поужинать и отдохнуть», – говорит Николай Петрович. – «Поесть действительно не худо, – заметил, потягиваясь, Базаров и опустился на диван… – Но не пройдете ли вы сперва в вашу комнату, Евгений Васильич? – Нет, благодарствуйте, незачем. Прикажите только чемоданишко мой туда стащить да вот эту одежонку, – прибавил он, снимая с себя свой балахон».
Поспешно нагнетаются характерные детали. Базаров не сразу подает хозяину дома свою красную руку, зевая требует ужина, не считает нужным умыться с дороги и проч. Но знаки базаровской наружности и поведения в контексте романа прочитываются исторически. И тогда вместо грубости и неряшества получается нигилизм.
Главные герои романов Тургенева наделены твердо очерченным характером с очень устойчивыми свойствами, заявляющими о себе в каждом высказывании, поступке, жесте персонажа. Специфика же Тургенева-романиста в том, что он хочет понять человека во всех его проявлениях, не только как обусловленного, но как прямое выражение обусловливающего – самой исторической энергии[192].
В каком смысле романы Флобера являются дотолстовскими? Не в хронологическом, конечно, скорее стадиальном. «Мадам Бовари» появилась в печати в 1856 году, «Воспитание чувств» – в 1869-м, том самом, когда была завершена работа над отдельным изданием «Войны и мира». Свои художественные открытия Флобер делал независимо от Толстого («Войну и мир» он, по совету Тургенева, прочитал только в 1870-х годах). Работая одновременно, Толстой овладел еще никем не изведанным опытом душевной жизни. Толстой вступил в будущее. Произведения Толстого полны удивительных художественных предсказаний (в толстовской литературе это уже отмечалось неоднократно). В зерне у него можно найти все то, что литература XX века усиленно разрабатывала и считала своей спецификой: поток сознания (классический его образец – внутренний монолог Анны по дороге на станцию, где она бросится под поезд), подсознательное, подводные течения разговора, укрупненные, резко выделенные детали. Толстой в своей гигантской продуктивности не сосредоточивался ни на одном из этих открытий. Впоследствии каждое из них возвели в систему.
Из всего сказанного по этому поводу ограничусь словами Андре Моруа: «Мы уже находим у него все, что в наши дни объявляют новшеством. Чувство отчужденности, одиночества. Душевную тревогу. Кто испытал это чувство сильнее Левина, который, целыми днями работая с крестьянами, твердил про себя: „Что же я такое? Где я? И зачем я здесь?“ А Фрейд с его теорией подсознательного – прочитайте: „Степан Аркадьевич взял шляпу и остановился, припоминая, не забыл ли чего. Оказалось, что он ничего не забыл, кроме того, что хотел забыть, – жену“. А Пруст и его книга „Под сенью девушек в цвету“? Вспомните атмосферу таинственности, окружавшую в сознании Левина сестер Щербацких и окончательно пленившую его. Воистину все, что мы любим в литературе, – уже было у Толстого»[193].
Существует на Западе и другое отношение к Толстому (в отличие от Достоевского) – как к классику, прочно ушедшему в прошлое. Но это вроде того, как мы забываем о воздухе, которым дышим. Толстой открыл первооснову всеобщего душевного опыта современного человека, и современный человек даже не замечает, что осознает себя по Толстому, что от этого ему никуда не уйти. Осознавать же себя по Достоевскому ему интереснее; к тому же это дает возможность обратить на себя внимание.
Толстой освободил изображаемого человека от жестких условий идеальной художественной модели. Идеальная модель вбирала наиболее выразительное, типическое и извергала лишнее и случайное. Произведение искусства всегда было избирательной соотнесенностью элементов, сознательно избирательной. Никто никогда не думал, что человек в самом деле состоит из одного свойства. Но в свое время именно так изображали человека. Это был способ типизации. Откровенное условие избирательности господствовало в литературе – от маски старинной комедии до романов Тургенева, которому нужны были «беспримесные типы». Избирательность – закон и природа искусства, и Толстой, разумеется, не мог от нее уйти; он ее преобразовал, приблизив изображаемого им человека к моделям документальной литературы, более свободным, таящим в себе – по выражению Герцена – «то, чего не знал анатом».
Толстой не писал автобиографий и мемуаров (за исключением начатых в 1903 году и незаконченных «Воспоминаний детства»), может быть, именно потому, что автобиографизмом проникнуто его творчество. Дневники для Толстого были сырьем нравственного становления. Подробный самоанализ, интроспекцию поглотили романы. В дневниках самоанализ суммарный – отправные точки для работы самосовершенствования. Поэтому исследуется здесь не целостная личность, характер, но отдельные черты, страсти, события – как испытания личности[194]. Толстой широко пользовался в своих произведениях обстоятельствами собственной жизни – это общеизвестно. Но, изображая Левина или Николеньку Иртеньева, Толстой столь же свободно прибегал к вымыслу («Детство», «Отрочество», «Юность» – произведения скорее автопсихологические, нежели автобиографические). «Документальность» Толстого – факт совсем не внешнего порядка. Подлинная ее сущность – в той прямой и открытой связи, которая существовала между нравственной проблематикой, занимавшей Толстого, и проблематикой его героев. Для Толстого постижение целей и ценностей жизни никогда не было отвлеченным занятием духа. Оно имело одновременно практическое отражение в его жизни и художественное – в творчестве. Толстой смолоду и до конца неустанно, каждодневно работал над своей жизнью, над осознанием своего опыта – офицера, помещика, семьянина, педагога, мыслителя. И для него, субъективно, писание повестей и романов было одним из проявлений этой непрекращающейся переработки жизни (отсюда и потребность фиксировать ее в дневниках).