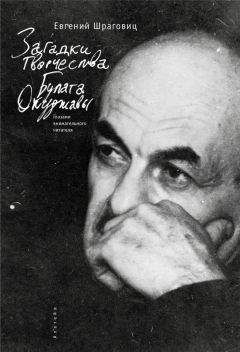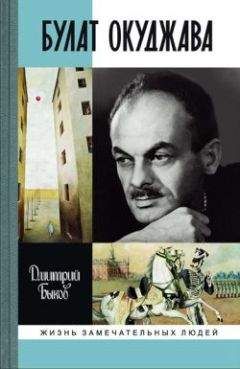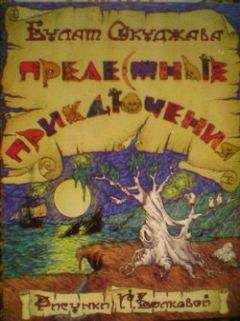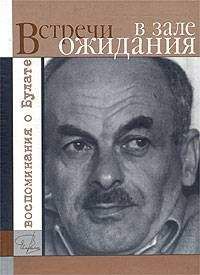Леонид Пинский - Реализм эпохи Возрождения
Можно ли в таком случае согласиться с распространенным в критике мнением, будто в развитии трагической страсти Тимона Афинского, в его резком переходе от покоя к аффекту на протяжении нескольких сцен того же третьего акта, не узнать художественного метода автора «Отелло», его искусства в развитии характера?
Это значит считать, что только Яго создает Отелло, как трагического героя, и порождает его страсть. Но это верно лишь по отношению к честному мавру из новеллы Чинтио. Тем самым слишком высоко оценивается роль Яго как личности в поведении Отелло. Но и в «Тимоне» есть свой Яго, роль которого играют друзья Тимона, те же «дорогие мерзавцы». Яго в «Тимоне Афинском» разменен мелкой монетой, а Дездемоной для Тимона является человеческое общество, Афины и те же друзья героя. Яго в «Тимоне» не отделен от Дездемоны и поэтому не так заметен.
Это значит подменить «Отелло» «домашней трагедией» о добром, хорошем муже, которого сбил с толку негодяй, друг дома, оклеветав его жену. Именно такой слабохарактерный герой мещанских трагедий XVIII века – «Лондонского купца», «Игрока» или «Сарры Сампсон» – попадает в сети коварного «злодея» или дурной женщины, которые по сути целиком отвечают за его преступления. Еще Геттнер выводил драму Лилло из «Отелло» и «Тимона Афинского», а среди старых шекспироведов Ульрици и Брандес придерживались взгляда на «Отелло» как «семейную драму». Но Отелло, в отличие от приказчика Джорджа Барнвелля, игрока Беверлея и Меллефонта, морально и эстетически вполне вменяем.
Иначе говоря, это значит обеднить и образ Яго, который возглавляет и символизирует социальный антагонистический мир драмы, образ, стоящий на грани фантастического (ведь сам Отелло, не только некоторые критики, подозревает в нем переодетого средневекового «черта», а в коллизии «Макбета» ему вполне соответствуют ведьмы), – и свести этот образ к позднейшим абстрактным «романтическим злодеям». Тем самым сцена, раздвинутая в мир, основание которой, как всегда в трагедии Шекспира, стихийно историческое, подменяется в «Отелло» абстрактными и тесными стенками «домашней трагедии». Но тогда не «Тимон Афинский», а «Отелло» – исключение по узости своей площадки для театра Шекспира.
Однако как раз для реалистической семейной драмы такая быстрая воспламеняемость шекспировского героя и непосредственный переход от сомнения к решимости («у меня сомнение нераздельно с решимостью», – говорит Отелло) были бы психологически исключительны и недостаточно мотивированны. Ведь в третьей сцене третьего акта, где уже решена судьба Дездемоны, Отелло даже еще не видел платка у Кассио. Есть только «слова, слова и слова»… Яго. В кульминации всех трагедий протагонисту Шекспира, переживающему апогей аффекта, небо кажется с овчинку (примеры: Лир, Макбет, Антоний, Кориалан, Тимон).
Этот трагический динамизм и свобода, а с нею в ослеплении, заблуждении, в развитии страсти составляет закон трагедии Шекспира. Например, в эволюции драм, изображающих ревность, он обнаруживается чем дальше, тем резче (ср. «Много шума из ничего» (1598), «Отелло» (1604), «Цимбелин» (1609) и «Зимнюю сказку» (1610). Такое развитие страсти, психологически неправдоподобное для буржуазной драмы, уже не раз ставило в тупик критику, подходящую к трагедии Шекспира с психологическими нормами позднейшей литературы.
Этот темп развития уже сам по себе придает страсти в трагедии демонический оттенок.
Показательно, что в гораздо более рефлектированной французской трагедии, особенно у Расина, где перед поступком дана целая полоса резонов и душевной борьбы, мы намного ближе к «основательности» и психологической правде позднейшей драмы, хотя сжатое действие театра классицизма – не забудем о «единстве времени» – это еще отзвук трагического темпа развития страсти.
Высшая трагическая правда этой резкости перехода к аффекту у Отелло, Кориолана, Тимона заключается в героическом сознании своего права на суд, на самостоятельный свободный акт. Там, где цивилизованный герой французской трагедии ищет для поступка достаточно объективных оснований в «разуме», в общепринятых нормах поведения, шекспировский герой, ближе стоящий к наивному состоянию, не размышляя находит их в самом себе. Его народная цельность обнаруживается в этой вере в себя и в свою безошибочность.
И вот почему личные качества Яго, как ловкого интригана, только предпосылка поведения Отелло.
Трагическая страсть начинается тогда, когда герой осознает, что он предоставлен самому себе в неправом мире. Его право и одновременно его долг героя – одному
…восстать
На море бед и кончить их борьбою.
В то же время это его право, его право как долг – долг Отелло, Лира, Кориолана, Тимона, отстоять свое личное право мужа, отца, заслуженного полководца, друга, – в зависимости от сюжета и темы пьесы. Это уже права свободной личности в ренессансном смысле. Так рождаются – в трагедийно героической форме – страсти ревности, гордости, отцовского чувства, мизантропии как явления индивидуализированного сознания героя литературы Нового времени.
Так происходит развитие трагического, как переход от эпически-синкретной характеристики к трагически определенному характеру. Здесь важно отметить два момента.
Во-первых, колоритность, богатство оттенков и общечеловеческое содержание шекспировского чувства – именно в этом переходе многообразного зачина в определенную страсть. «Отелло» – не драма ревнивца, но трагедия о человеке, который стал ревновать. В «Антонии и Клеопатре» герой, отнюдь не напоминающий изнеженного Фоблаза, поставил, однако, все на карту любви. Кориолана обуяла непомерная гордыня. В «Тимоне» мы видим, как можно стать ожесточенным человеконенавистником, и как раз тогда, когда человек полон любви к людям.
Преимущество шекспировской почвы трагического в том, что он, в отличие от писателей более зрелого буржуазного общества, еще в состоянии показать, как из полноты наивного человеческого сознания вырастает та или иная страсть в определенных условиях, и при этом, как нормально человеческая, общечеловеческая страсть. Ренессансный образ Отелло поэтому, в отличие от ревнивцев барочного испанского театра (типа дона Гутьере из «Врача своей чести»), говорит гораздо непосредственнее чувству каждого человека – и ревнивцу и тому, кто никогда не знал ревности. Потенциальная энергия естественной человеческой натуры становится в «Отелло» кинетической энергией аффекта.
Гёте поэтому противопоставляет Шекспира Кальдерону, как «виноград» – «спирту». «Шекспир подносит нам спелые гроздья винограда прямо с лозы; мы можем лакомиться по ягодке, можем его выжимать в давильном чане, отведать или пить его в виде виноградного сока или в виде перебродившего вина – он во всяком случае освежает нас; у Кальдерона, напротив, зрителю, его выбору и воле не предоставляется ровно ничего; ему дают выделанный, уже перегнанный винный спирт, приправленный специями и подслащенный. Надо выпить его, как он есть, как вкусное, раздражающее средство – или совсем от него отказаться» (статья «Дочь воздуха» Кальдерона). Разумеется, образное сравнение Гёте относится не только к идейному отличию объективного Шекспира от тенденциозного Кальдерона, но и к психологическому содержанию характеров у обоих драматургов.
Таким образом, в пресловутом вопросе – является ли «Отелло» трагедией ревности – правильны и недостаточны обе точки зрения. Трагедия Шекспира одновременно идейно-историческая картина и захватывающая психологическая картина рождения и развития страсти в ее первоначальной свежести.
Во-вторых, свободная, раскованная страсть героя, имеющего мир, общество, не за собой, как в эпосе, а против себя – это уже начало губительное и для героя и для среды. Эпическая сила и цельность его натуры, его вера в себя и сознание своего права, в условиях мира трагедии становится поэтому опустошающей, разрушительной силой. Шекспировский протагонист находится в коллизии, родственной Дон Кихоту (в особенности это обнажено в «Тимоне Афинском»), но он поражает отнюдь не стадо баранов.
По своему положению, как отец, муж, гражданин, герой Шекспира уже фактически член этого мира, который вышел из старой колеи. А его ослепление (наивное представление об окружающем мире) делает его орудием интриг и эгоистических интересов буржуазного общества. Это отчетливо выступает в «Отелло», «Короле Лире» и «Тимоне Афинском», отнесенных выше к драмам, обнажающим этико-экономический фундамент новой культуры.
Эпическая индивидуальность героя, как последнего могикана добуржуазного общества, становится в ренессансной трагедии формой рождения индивидуалистического сознания капиталистической эры. В основе этого изображения лежит диалектика самой жизни в эпоху Ренессанса. Выше уже отмечалось, что прототипами Отелло, Антония, Кориолана или Макбета мог быть хотя бы такой характерный социальный тип эпохи, как кондотьер, герой изобразительного искусства итальянского Возрождения. Кондотьер, с одной стороны, потомок средневекового рыцаря. Его служба – это еще не воинская повинность для человека Нового времени, не временное исполнение гражданского долга перед отечеством. Война для него, как и для рыцаря, нормальное состояние. Но, с другой стороны, он уже выключен из вассально-сеньоральных связей сословного общества. Он не имеет лена и является свободным наемным воином. Исторически он уже предшественник военспеца буржуазной армии. Он еще рыцарь сравнительно с позднейшим солдатом, он уже солдат сравнительно со средневековым рыцарем. Таково же ренессансное свободное сознание Тимона сравнительно с типом патриархального бюргера – и позднейшего буржуа.