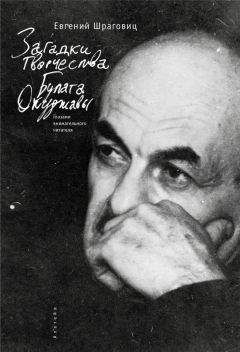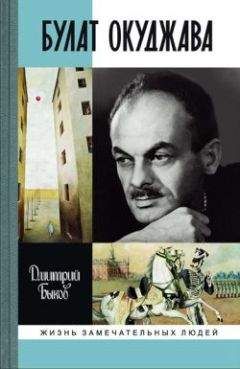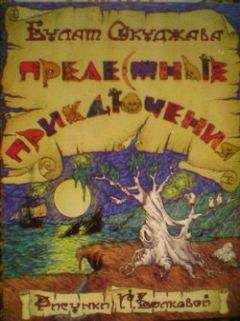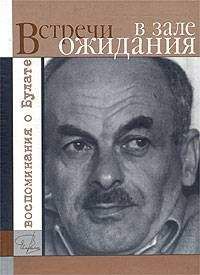Леонид Пинский - Реализм эпохи Возрождения
Среди бесчисленных поклонников Шекспира Драйден, один из наиболее умеренных, выразил, быть может, наиболее удачно, в немногих словах характер гения Шекспира, в особенности как поэта трагического. «Не могу сказать, чтоб он был всегда ровен. Будь он всегда ровен, я, ставя его рядом с величайшими писателями человечества, лишь нанес бы ему оскорбление. Он часто бывает плоским, безвкусным; его комизм опускается тогда до искусственности, а серьезное переходит в напыщенность. Но он всегда велик, когда перед ним стоит великий предмет. Всякий скажет, что, найдя предмет под стать своему гению, он настолько же возвышается над всеми остальными поэтами, как высокий кипарис над кустарниками»[115]. Великое, таким образом, Шекспиру по плечу. (По Драйдену, даже только великое.) Всемирно-историческое – его стихия, как первого среди трагиков.
Сюжет «Дон Кихота» и конец реализма Возрождения
I. Сюжет-фабула и сюжет-ситуация
В ряду творцов так называемых «вечных образов» автор «Дон Кихота» занимает совершенно особое место.
Задолго до Эсхила у греков, а также у других народов, бытовали сказания о титане, противнике богов, похитителе огня, терпящем муки за свой проступок, – основные фабульные мотивы мифа, герой которого благодаря гениальному художественному истолкованию Эсхила стал для потомства символом тираноборческого, свободолюбивого духа, символом человеческого прогресса. Тема рыцаря-соблазнителя и его похождений, как и мотив дерзкого приглашения мертвеца (или статуи) на ужин, были широко известны в средневековом театре и поэзии еще до того, как они слились в испанской легенде о доне Хуане де Тенорио, послужившей источником для «Севильского озорника» Тирсо де Молины, первой литературной обработки знаменитого сюжета о Дон Жуане. Творцы образа Фауста также исходят из уже известной истории, зафиксированной в народной книге (а с XVII века и в ярмарочном театре), из анонимного, ничейного, «всеобщего» сюжета, где художнику принадлежит только трактовка центрального образа и вспомогательные мотивы, а не основа фабулы.
Сервантесу, напротив, всецело принадлежит сама фабула его произведения, как и связанная с ней тема. Трагикомическая история бедного идальго, возомнившего, что он – герой, призванный возродить странствующее рыцарство, дабы помогать беззащитным, мстить за обиженных и карать вероломных, не имеет ни фольклорных, ни книжных источников. После множества исследований удалось найти всего лишь два незначительных произведения, внешне напоминающих фабулу «Дон Кихота». В одной анонимной интермедии, напечатанной при жизни Сервантеса, выведен молодой крестьянин Бартоло, рехнувшийся от чтения романсов; вообразив себя героем одного из них, он отправляется совершать подвиги и по пути ввязывается в драку с пастухом, которого принимает за похитителя красавиц. Избитый пастухом, он, подобно Дон Кихоту, винит во всем свою лошадь и продолжает бредить стихами из романсов. Родственники увозят Бартоло домой, а его сосед, подобно ключнице Дон Кихота, проклинает все романсы на свете. Затем, в шестьдесят четвертой новелле Ф. Саккетти рассказывается о флорентийском ткаче, старом Аньоло, который, сопровождая горожан на турнир, решил там блеснуть своим искусством на тощей кляче, «сущем олицетворении голода», нанятой им у красильщика. Друзья, при которых он играет роль шута, надели ему на голову шлем, дали в руки копье, а лошади засунули под хвост чертополох, и та, взбесившись, сбросила седока в грязь. Доставленный домой Аньоло вступает в перебранку с женой, которая ему доказывает, что ткачу подобает знать свою шерсть, а не думать о турнирах. Мораль новеллы – жены часто бывают умнее своих мужей.
Была ли Сервантесу известна новелла Саккетти? Датировка интермедии также неясна. Она помещена среди других пьес в одном сборнике 1611 или 1612 года, а первая часть «Дон Кихота» напечатана еще в 1605 году. Если даже допустить, вместе с известным историком испанской литературы Р. Менендесом Пидалем, что «Интермедия о романсах» относится к 90-м годам XVI века и сыграла роль в замысле «Дон Кихота»[116], ясно, что она, самое большее, может быть соотнесена с начальными пятью главами романа (первый выезд героя без Санчо Пансы), которые, взятые вне целого, еще в основном не выходят за пределы насмешки над увлечением рыцарскими романами. Новелла Саккетти напоминает семьдесят первую главу второй части романа Сервантеса – проделку мальчишек над Росинантом и ослом Санчо при въезде героев в Барселону. Но в обоих случаях образ ламанчского рыцаря не имеет ничего общего с «прототипами», выдвинутыми новейшей критикой. Характер Дон Кихота сказывается прежде всего в том, что он неизменно верен своей мании, несмотря на многократные поражения, тогда как для тех рыцарство – всего лишь временная блажь. Без серии приключений, без «многочленной» композиции романа еще нет фабулы о герое-энтузиасте, упорно игнорирующем опыт жизни, – в авантюрном построении «Дон Кихота» отражается масштаб героического характера, как и существо донкихотской темы.
Сравнивая генезис образа Дон Кихота с другими «вечными» образами, важно установить, что фабула Сервантеса не опирается на какой-либо широко известный мотив, вошедший в религиозное, моральное или художественное сознание аудитории. Случайный, вряд ли запомнившийся анекдот Саккетти или автора интермедии никак не может умалить роль Сервантеса как творца своей фабулы.
Еще показательнее это различие при сравнении дальнейшей судьбы уже введенных в литературный обиход «вечных» тем. В последующих разработках сюжетов Прометея, Дон Жуана или Фауста творческая самостоятельность художника сказывается в предпочтении, отдаваемом отдельным мотивам легенды, в новых эпизодах и самостоятельных истолкованиях всего сюжета, но «фактическая» основа остается неизменной, сохраняя при всех вариациях известную связь с первоначальной версией и ее специфическими мотивами (похищение огня, вызов статуи мужа, договор с бесом). Любопытно, что Байрон, у которого от легенды об испанском соблазнителе осталась лишь тень, еще допускал – в шутку – возможность «ада» как развязки для оставшейся незаконченной поэмы. Связь с первоосновой фабулы в различных «Прометеях», «Дон Жуанах», «Фаустах» внешне обнаруживается и в обязательном сохранении имени центрального героя, а также, хотя и не столь строго, других персонажей сказания.
Напротив, ни в одном из романов, родственных по духу «Дон Кихоту», не повторяются его фабульные мотивы. Ни один из последующих донкихотов не зачитывается до безумия рыцарскими романами, не принимает ветряных мельниц за великанов и не поражает стадо баранов – вообще не повторяет ни один из подвигов рыцаря Печального образа. Новые донкихоты не отождествляются в сознании читателя с идальго из Ламанчи и не носят поэтому его имени. Они лишь соотнесены с персонажем знаменитого романа, как с нормой «донкихотства», и в силу этого герой Сервантеса стал нарицательным образом именно как герой одного определенного романа. После всех бесчисленных Прометеев, Дон Жуанов, Фаустов и столь разнообразных интерпретаций этих сюжетов они уже не связываются в нашем представлении с каким-либо одним художественным памятником (хотя Мольер, Моцарт и Гёте затмили своих предшественников). Но – ограничиваясь примерами из английского романа XVIII века – пастор Адамс у Филдинга и пастор Примроз у Гольдсмита, коммодор Траньон у Смоллетта и дядя Тоби у Стерна имеют вполне определенный литературный адрес. Ассоциация у читателя здесь вполне четкая, так же как в обиходной речи при употреблении слова «донкихот».
Сюжет Прометея завещан античностью. Сюжеты Фауста и Дон Жуана, подготовленные Средними веками, возникают в конце XVI – начале XVII века, одновременно с «Дон Кихотом». Марло и Тирсо де Молина являются современниками Сервантеса. Но различие в генезисе «Трагической истории доктора Фауста» Марло и «Севильского озорника» Тирсо, с одной стороны, и «Дон Кихота Ламанчского» – с другой, связано с двумя фазами в истории развития европейской сюжетики. Это различие по-своему обнажает новаторскую роль Сервантеса как родоначальника романа Нового времени.
В сюжете, идущем от Эсхила, как и в тех, которые ввели в литературу Марло и Тирсо, мы пребываем на почве устной легенды или книжного предания, на почве реального «факта» или условно наивного его восприятия как реального – в силу длительной художественной традиции, придавшей сюжету характер доподлинной «истории», а герою – достоверность невымышленного лица. Это сказание, противоречивое и загадочное, как бы не досказанное до конца, поражает воображение и манит творческую мысль. Каждый новый художник, отправляясь от одной и той же фабулы, но вводя новые сюжетные детали и психологические мотивы, достигает нового – в соответствии со своим временем и своими идейными позициями – освещения старой «истории». Мысль здесь непосредственно переходит от единичного к общечеловеческому, от факта к проблеме; основанием для обобщения при этом служит «классический», освященный традицией «реальный» (как в истории) характер факта.