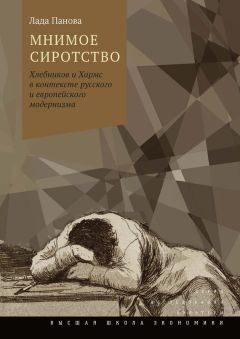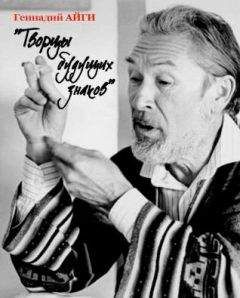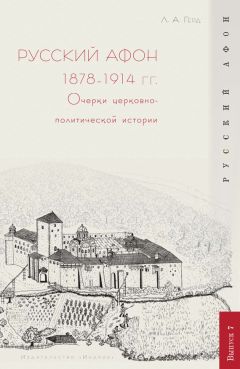Светлана Пискунова - От Пушкина до Пушкинского дома: очерки исторической поэтики русского романа
Конечно, «Дон Кихот» – это «роман сознания» в его «зачаточном», проективном виде: значение творения Сервантеса для литературы, для жанра романа будет вполне оценено только в XX столетии, когда «Дон Кихот» стал романом для… романистов, а романтическое восхищение рыцарем Печального Образа опустилось в область массовой культуры и поделок, вроде «Человека из Ламанчи».
Писатели XVIII столетия, прежде всего английские, следовавшие за Сервантесом, пытались сочетать сервантесовский тип романа с иными, в том числе и изначально враждебными ему, повествовательными дискурсами, с той же пикареской19, или с пародируемым автором «Дон Кихота» romance (Вальтер Скотт). Наконец, Флобер стал первым западноевропейским романистом20 соединившим две, до того почти не пересекавшиеся жанровые традиции: «сервантесовскую» линию развития романа и опыт французской психологической прозы.
С детства влюбленный в роман Сервантеса и не расстававшийся с ним во время работы над «Мадам Бовари», Флобер не только заимствовал у Сервантеса жанрообразующую сюжетную ситуацию, в центре которой – читательница романов, маниакально устремленная к воплощению в жизнь романических вымыслов. «Как и Сервантес, – отмечает автор первого обстоятельного исследования о влиянии "Дон Кихота" на "Мадам Бовари" С. Фокс, – Флобер стремился создать произведение, которое разрушило бы противопоставление идеального и реального, заменив его постоянным взаимопроникновеним этих двух видов романного дискурса»21.
Эта особенность «флоберовского письма» сказывается и на уровне словесно-стилевом. Так, Ж. Женетт обнаруживает у автора «Мадам Бовари» и «Воспитания чувств» «избыток материального присутствия в картинах, вообще говоря, чисто субъективных, где правдоподобие требовало бы… смутных, расплывчатых, неуловимых намеков»22. «Неодолимое чувство объективной реальности», переживаемое читателем Флобера, сопровождает, согласно наблюдениям Женетта, все «подчеркнуто чисто субъективные» пассажи, передающие не только воспоминания или видения героя или героини, но и воссоздающие картины реальности, увиденной как бы его глазами. Психологических объяснений этих «странностей» флоберовского стиля, по мнению Женетта, недостаточно: конечная цель огромного числа деталей и «околичностей», загромождающих повествование Флобера23, – выстраивание над «миром знаков» «мира смысла» (над традиционными миметическим «описаниями» и «психологией» – сферы сознания, сказали бы мы). Женетт определяет этот акт как акт «утверждения безмолвия»: «…не дающаяся в руки трансцендентность, ускользание смысла в бесконечном трепете вещей, – пишет Женетт, – это и есть письмо Флобера»24.
Анализ Женетта полностью отменяет все еще бытующее представление о Флобере как основоположнике натуралистического метода, творце «объективного романа»: это – такой же научно-критический миф, как и тот, что роман Сервантеса строится на столкновении иллюзии и реальности, а его автор попеременно отстаивает «правду» то реальности, то идеала25. В структуре «романа сознания», подчеркнем еще раз, такого столкновения нет, а есть настойчивое стремление автора к изображению «внутреннего» и «внешнего» в их целокупности (реальность для создателя «романа сознания» столь же иллюзорна, сколь реальна иллюзия), к максимальной объективации субъективного переживания.
Именно отсюда проистекают отмеченные А. Пятигорским специфические отношения письма и жизни, автора и героя, их «нераздельность-неслиянность»26, в образцовом виде воплощенные во взаимоотношениях Автора и Эммы Бовари. Автор – иронист и пародист – с одной стороны, явно дистанцируется от своей недалекой героини, с другой, в известном письме подчеркивает особую к ней близость, родство душ («Эмма – это я!»), видит мир словно ее глазами и даже чувственно себя с ней отождествляет. Этому же закону отождествления / противопоставления подчинены и взаимоотношения автора-творца и повествователя, автора и читателя (Пьер Менар – автор «Дон Кихота»).
Онтологически уравненный с автором, герой (героиня) «романа сознания» наделяется особой свободой (в пределах беспрестанно меняющегося творческого замысла) – вплоть до права восстать против автора, что и делает Аугусто Перес, герой «Тумана» (1914) М. де Унамуно, созданного под непосредственным влиянием как Сервантеса, так и Флобера. А также Достоевского, которого если и сопоставляют с Флобером (как это делает М. Бахтин), то преимущественно по линии противопоставления27.
Основания для этого имеются. И дело не только в стилистической выдержанности и композиционной продуманности «Мадам Бовари», во флоберовской установке на создание завершенных «произведений искусства», столь отличных от хаотичности, композиционной рассогласованности произведений Достоевского, от подчеркнутой «процессуальности» его творений, о чем писали Г. С. Морсон и другие исследователи (и что так сближает его с Мигелем де Сервантесом!). Основное различие Достоевского и Флобера состоит в том, что сознание героев Флобера (Эммы – в первую очередь!) открыто лишь авторскому «я» и наглухо отгорожено от сознаний других персонажей, равно как они, в свой черед, замкнуты в своих маленьких «эго»28. Поэтому единственная сфера, их объединяющая, – сфера безмолвия. Напротив, герои романов и повестей Достоевского, подобно Дон Кихоту и Санчо Пансе, которые, по мудрому замечанию А. Мачадо, не делают ничего важнее того, что разговаривают друг с другом, почти не умолкают, находясь, по выражению Бахтина, в ситуации постоянного диалогического общения.
По-видимому, есть основание поставить вопрос о двух типах «романа сознания», которые условно можно обозначить как монологический и диалогический, в каждом из которых – на скрещении сервантесовского романа с иными жанровыми и национальными традициями – по-своему проявились разные стороны сервантесовского Жанра («романа сознания»), разные трактовки «донкихотовской ситуации». При этом многое зависит от избранной романистом повествовательной стратегии: повествования от первого лица, от третьего лица (спародированная эпическая наррация), в ракурсе несобственно-прямой речи, в более редких формах «сценического» диалога («Селестина Ф. де Рохаса, «Жак-фаталист» Дидро, фрагменты «Вильгельма Мейстера», 15-й эпизод «Улисса») или рассказа от «второго лица» (Итало Кальвино). Монологический дискурс, естественно, больше тяготеет к повествованию от первого лица, диалогический – к ракурсу несобственно-прямой речи. При том что (и здесь Бахтин прав!) жесткой корреляции между повествовательным ракурсом и принципом изображения героя («ты еси!», «он – другой»…) нет.
Обращение Флобера к Сервантесу было во многом продиктовано стремлением вырваться из зависимости от многовековой национальной традиции перволичного повествования, сориентированного на светскую автобиографию-мемуар (нередко оформлявшуюся как «записки), на жанр «письма», а также на «Исповедь» – но не Августина, а Руссо, полностью перестроившего исповедальный молитвенный диалогизм дискурса предшественника в монологическое самоизъявление. Перволичное повествование – это и доминирующий модус многочисленных романтических «исповедей» «сыновей века», в полемике с которыми складывалось творчество Флобера. Апеллируя к опыту создателя «Дон Кихота», Флобер – автор «Мадам Бовари» и «Воспитания чувств» – стремился противопоставить исповедальному автобиографизму иронически дистанцированное эпическое повест вование, одновременно пародирующее клише жанра romance (Поль де Кок или Вальтер Скотт для автора «Мадам Бовари» – то же, что рыцарские романы для Сервантеса). Он жаждал уйти от романтического эгоцентризма, видвигающего на первый план романтического автора-героя (героиню), отождествленных до неразличимости. Успех Флобера-творца в «Мадам Бовари» – это не отличимая от поражения победа в проходящей через весь роман борьбе с романтическим сознанием.
В семитомных «В поисках утраченного времени» Пруста, с которых, собственно, и начинается история модернистского «романа сознания»29, флоберовское напряженно-неестественное «мы» повествователя, фигурирующее на первых страницах «Мадам Бовари» и переходящее затем в псевдо-объективное обезличенное «оно», сменяется подчеркнуто монологическим псевдоавтобиографизмом.
Одна из главных трудностей для читателей Пруста и его иследователей заключается, как известно, в именной омонимии творца «эпопеи» и ее героя, от лица которого ведется повествование (и того, и другого зовут Марселем), а также в слиянии трудно различимых голосов Марселя-актанта («вспоминателя») и Марселя-нарратора. Подлинный герой романа Пруста – «действующее сознание», которое «на положении суверенного героя романа» занимает в «Поисках утраченного времени» «место, которое занимает в обычном романе герой»30. Это место – место пребывания некоего «абсолютного я», отличного от «я» психологического. «…Это отличие абсолютного "я" от психологического "я", – утверждает автор „Лекций о Прусте“, – есть стержень всей формы прустовского романа». Духовные усилия автора / повествователя, подчеркивает философ, направлены «против основных тенденций нашей психики». Распутывая в процессе создания текста романа текст своей жизни, «субъект переживания» по имени Марсель вдохновлен интуицией самого себя как абсолютного существа, по отношению к которому в точках его пробуждений-просветов от «сна» повседневного существования и структурируются «другие слои… душевной жизни». Отсюда – два взаимодополнительных мотива (и две сквозные сюжетные ситуации) эпопеи Пруста: слепота и пробуждение31. «В… момент просыпания вмещается весь микрокосм Пруста», – утверждает Мамардашвили.