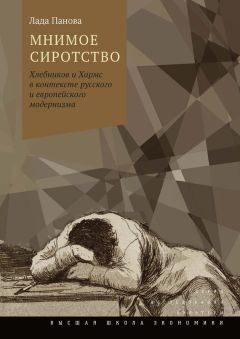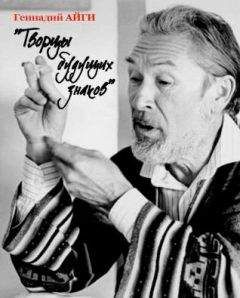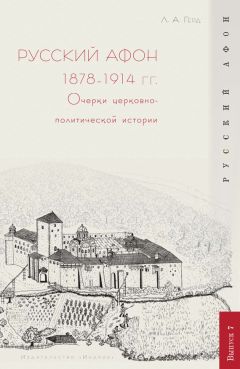Светлана Пискунова - От Пушкина до Пушкинского дома: очерки исторической поэтики русского романа
Вместе с тем в современной сервантистике, прежде всего в ее англо-саксонской ветви, сложилась противоположная тенденция – к отрицанию романной природы «Дон Кихота» в принципе, соответственно – и основополагающей роли творения Сервантеса в истории жанра novel3. Мотивируется это тем, что в истории хитроумного идальго (и с этим не поспоришь!) нет ни саморазвивающихся характеров, ни психологической глубины в разработке образов (прежде всего, двух главных героев), нет и соотнесенного с их духовной эволюцией логично развивающегося сюжета, то есть всего того, что отличает европейский социально-психологический роман XIX столетия.
Впрочем, психологической глубины нет в образах героев многих европейских романов XVII – начала XVIII столетий (достаточно вспомнить испанскую пикареску, «Робинзона Крузо», «Тристрама Шенди», «Кандида», «Жака-фаталиста», «Вильгельма Мейстера»)… Эти произведения пытались интерпретировать как романы-мифы («Робинзон Крузо»), как философские или аллегорические романы, но в любом случае ясно, что эта романная традиция возникла и развивалась вне сферы влияния психологической прозы, разве что в пародийной полемике с сенсуализмом и базирующимся на нем психологизмом («Тристрам Шенди»). Зато очевидно, что творцы перечисленных произведений внимательно читали «Дон Кихота». Поскольку Сервантес представил в «Дон Кихоте» не только первый образец «самосознательного» метаповествования (и здесь Р. Алтер и его предшественник Г. Левин совершенно правы), но и архетипическую модель «романа сознания» – жанра, который характеризуется тем, что главным предметом изображения в нем является не «психология», то есть предметно воссозданный «внутренний мир» вымышленного персонажа, так или иначе соотнесенный с его пребыванием в мире внешнем, но его сознание (а на этом срезе бытия мир «внешний» и мир «внутренний» – нерасчленимое единство), а также сознание автора, не противостоящего своим героям как активный субъект пассивному объекту, с ними онтологически уравненному.
Теория и история этой разновидности романа, без специальной акцентуации самого термина «роман сознания», были предложены М. М. Бахтиным в двух вариантах книги о Достоевском: в первом, 1929 года, «роман сознания» охарактеризован как полифонический роман, во втором, 1963-го, во вновь написанной 4-й главе представлена историко-поэтологическая перспектива его формирования – внутри жанровой традиции мениппеи4.
Герои Достоевского (начиная с персонажей «Бедных людей»), по наблюдению М. М. Бахтина, не сводимы ни к характерам, ни к психологическим типам. Главный предмет изображения Достоевского – сознание и самосознание героя5. Сознание как «герой» выдвигается автором «Проблем поэтики Достоевского» на первый план на фоне целенаправленного разграничения «романа сознания» и психологического романа6, что, в свою очередь, основано на подробно Бахтиным не оговоренном различении самих понятий «сознание» и «психика»7. Для русского философа, как и для неокантианской и феноменологической школ в философии начала XX столетия, психика (психофизиология) – объект естественно-научного познания, в то время как сознание – атрибут личности, открывающейся другому «я» в процессе диалогического общения. Для всех постгуссерлианских направлений в современной философии сознание располагается в «метафизической» сфере принципов оформления, структурирования как собственно психологического, так и всякого иного жизненного опыта.
В русской философии второй половины XX века подобная трактовка сознания представлена в трудах М. Мамардашвили и А. Пятигорского. «Сознание – это не психический процесс в классическом психофизиологическом смысле слова… Оно есть уровень, на котором синтезируются все (выделено авторами. – С. П.) конкретные психические процессы, которые на этом уровне уже не являются самими собой, так как на этом уровне они относятся к сознанию», – подчеркивают М. Мамардашвили и А. Пятигорский в программном труде «Символ и сознание» (1997). Они же, каждый в своем жанре (Мамардашвили – в цикле лекций о Прусте8, Пятигорский – в романной дилогии9), экстраполировали разработанную ими «метатеорию» сознания в область литературы, предложив и свое понимание «романа сознания», в чем-то согласующееся с бахтинским, в чем-то от него отличное, начиная с обозначений-«имен» жанра: если Бахтин пишет о «полифоническом» романе, то Мамардашвили говорит о «романе Пути», «романе освобождения», а Пятигорский – о «Романе Самосознания» или просто «Сознания» (прописные буквы – авторские. —
С. П.). Последний предлагает и свою «формулу» жанра, сосредоточенную преимущественно в сфере взаимоотношений Автора и Героя, находящихся друг с другом в отношениях своеобразного двойниче ства: «Схема европейского Романа Сознания (другого пока не было – это весьма узкий географический жанр) очень проста. Его герой оттого и герой, что сам не пишет романа. А если пишет, не напишет. А если напишет, то не напечатает. А если даже и напечатает, то весь тираж сгорит… Писание романа здесь есть тот бытийный, а не психологический признак, который разделяет Автора и Героя. Автор оттого и автор, что не может писать сам, пока не он, а другой, т. е. герой Романа Самосознания не «начнет» этого делать (но не наоборот – здесь, как и в случае с двойником. Нет симметрии!)»10.
Сказанное полностью применимо к «Дон Кихоту», являющемуся, как уже не раз подчеркивалось в этой книге, первым образцом «романа сознания» (и самосознания)11: Алонсо Кихано задумывает написать рыцарский роман, но затем решает сделать это не на бумаге, а в деянии, вписав свое, сотворенное по канонам рыцарской эпики, «я» в текст самой жизни. Воссоздать этот текст в слове Автор-творец, то ли «родитель», то ли «отчим» героя, то есть частично его двойник12, передоверяет, в конечном счете, другому двойнику – «подставному автору» Сиду Ахмету Бененхели, выступая сам в роли издателя переведенной на кастильский арабской рукописи.
Жанрообразующая коллизия романа Сервантеса – «донкихотская ситуация» – в образцово-символической (аллегорической, по определению Шопенгауэра) «формуле» демонстрирует схему работы сознания («я» в горизонте идеального бытия), воплощающегося в текст, сотканный из ключевых образов и мотивов рыцарской эпики. . Донкихотовская коллизия принципиально «очищена» от какого-либо психологического субстрата: о какой «психологии» может идти речь применительно к персонажу карнавализованного действа, к сумасшедшему13? При том, что безумие ламанчского идальго выражается не в утрате способности к логическому мышлению или к связной речи, не в потере памяти или в классических галлюцинациях, не в буйстве14 или меланхолии, а в том, что оно априорно структурирует данные чувственного опыта Алонсо Кихано совершенно особым, отличным от большинства окружающих его людей, образом. Предельно скупо информируя читателя о том, что чувствует рыцарь Печального Образа в те или иные моменты его похождений, как он переживает свое очередное поражение или неожиданный триумф, Сервантес в малейших подробностях передает, как его «изобретательный» (то есть наделенный творческим воображением) персонаж видит15 окружающую его реальность, интерпретируя ее в соответствии с текстовым кодом «рыцарского» мифа и рожденным в процессе чтения рыцарских романов «личностным проектом». Вместе с тем, как пишет С. Г. Бочаров, первый из русских критиков прочитавший «Дон Кихота» как «роман сознания», «собственно рыцарская материя в сознании Дон Кихота не самое главное, это его материал и внешние формы, в которые облечен его образ мира. Главное и существенное – структура этого образа мира, структура сознания Дон Кихота»16.
Рыцарь Печального Образа не только воспринимает вещи в их идеальной ипостаси, а идеальное – воплощенным в вещи-символы (шлем Мамбрина – в таз цирюльника). «Сознание Дон Кихота, – пишет Бочаров, – сознание реалиста (в средневековом значении), который верит в реальность общих понятий. Хитроумный идальго видит (выделено автором. – С. П.) идеальные вещи. Идеализм Дон Кихота не бежит вещественности, но весь воплощен в материю самую низкую; мир сознания Дон Кихота и его окружающий мир – одни и те же предметы»17. Иными словами, мир в романе Сервантеса, увиденный глазами главного героя и частично солидарного с ним автора, – это символическая реальность, не противопоставляющая реальное и идеальное, но объединяющая их в субъектно-объектную сферу сознания, в которую и должен войти читатель, способный почувствовать свою причастность к христианско-гуманистическому идеалу «всеединства», побеждающего самое смерть18.
Конечно, «Дон Кихот» – это «роман сознания» в его «зачаточном», проективном виде: значение творения Сервантеса для литературы, для жанра романа будет вполне оценено только в XX столетии, когда «Дон Кихот» стал романом для… романистов, а романтическое восхищение рыцарем Печального Образа опустилось в область массовой культуры и поделок, вроде «Человека из Ламанчи».