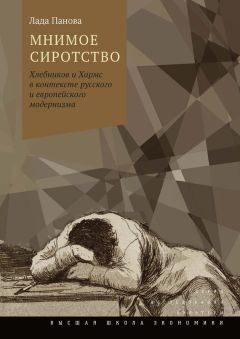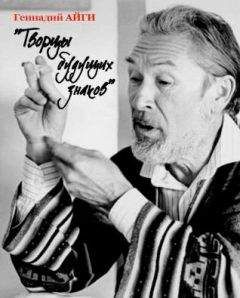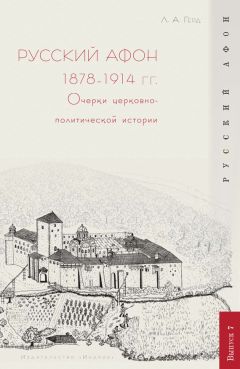Светлана Пискунова - От Пушкина до Пушкинского дома: очерки исторической поэтики русского романа
В свою очередь, завершение романа о Пилате определяет и судьбу Мастера, который так же, как и «сын короля-звездочета», получает свободу, то есть право ухода из жизни и обретения покоя. Определяется будущность и самого Булгакова: незаконченность романа, о чем пишут все биографы, магическим образом продлевала жизнь писателя. История становится «поэзией», «романом», литературой, а литература – жизнью, органической составляющей которой является смерть… А именно в процессе взаимопревращения превращения слова – в деяние, истории – в поэзию, литературы (текста) – в жизнь, уничтожения онтологических различий между героем, автором и читателем, под пером Сервантеса сложился новоевропейский роман. В этом смысле «Мастер и Маргарита» встраивается в линию развития жанра, начатую Сервантесом:
Но хотя «роман» Мастера в вечности, там, где «рукописи не горят», получает завершение, как запечатанный в бумажные тетради текст он не будет завершен никогда: дописать роман о Пилате Мастер завещает Ученику – Ивану Поныреву, который в силу своего ум ственного состояния не сможет этого сделать! Задача завершить – дописать! – «Мастера и Маргариту» как целое ложится на плечи самого Булгакова. Так появляется Эпилог, изоморфно воссоздающий весь предшествующий последним главам строй романа. Романтическое двоемирие восстанавливается в нем во всей своей четкости: в «московские» микросюжеты с «окончательным» псевдорациональным объяснением случившегося как «текст в тексте» (традиционнейший повествовательный прием) вставлен провидческий (наркотический) «сон» Ивана Понырева, представляющий новую версию посмертного существования Мастера. Таким образом, Эпилог предлагает очередное удвоение фабульной развязки романа (первая дихотомия касалась смерти Мастера и Маргариты, происходящей одновременно в двух измерениях бытия – магическом (преображенный визитерами из преисподней подвал Мастера) и – в «реальном» (особняк Маргариты и клиника Стравинского31).
В последних главах «Мастера и Маргарита» вполне обнаруживается то мировоззренческое кредо, на котором роман выстроен: это – не только манихейское представление о равноправии, равновесности сил Добра и Зла, Бога и Дьявола в порядке мироздания (судьба Пилата, Мастера и романа Мастера зависит от «просьбы» Иешуа, адресованной… Дьяволу), но и гностическое (хотя и во многом христианское) убеждение в исконной греховности, падшести посюстороннего мира. Как следствие – рождается представление о том, что Богу в этом мире – не место. Даже если Господь и захотел бы что-то в мире людей, на земле, в посюсторонности изменить, за кого-то вступиться, кому-то воздать по заслугам, то сделать это он может только… руками Сатаны. Дьявол – неизбежный посредник между Иешуа и «добрыми людьми».
В «перевернутом» мире «революционного карнавала» (К. Платт) Воланд у Булгакова исполняет обязанности восстановителя справедливости, осуществляя воздаяние и неся прощение. Хотя последнее он делает подчеркнуто не по своей, не по «доброй воле». «Доброй воли» у булгаковского Дьявола, конечно же, нет. Но и злой тоже: ее носители в романе Булгакова – те самые люди, которых Иешуа по-донкихотски считает «добрыми». Дьявол лишь осуществляет или «доводит до ума» ими задуманное. Отсюда – неизменно позитивное! – читательское восприятие не только образов Иешуа и Мастера, но и образа Воланда и его подручных. Равно как и возлюбленной Мастера – Маргариты, становящейся ради спасения любимого ведьмой.
Нет ничего сомнительного, противоречивого, двойственного в авторской оценке и в читательском восприятии большинства «отрицательных» персонажей романа. А ведь именно двойственность – наряду с игрой, метатекстуальностью и процессуальностью (все эти понятия не раз возникали на страницах этой книги при обращении к роману Сервантеса и романам «сервантесовского типа») – выдвигается современными интерпретаторами романа Булгакова на первый план32. Как нам представляется, двойственность (амбивалентность) – категория преимущественно оценочная, а не конструктивная. Двойственность – не двоемирие, не дихотомичность, не традиционная дуальная модель организации художественного мира, не «текст в тексте» и даже не наличие двух (и более) повествовательных инстанций… Сущность двойственности как принципа авторского поведения заключается в предоставлении читателю свободы выбора между, по меньшей мере, двумя оценками того или иного героя или события, двумя (и более) сущностными, смысловыми пониманиями одного и того же текста, изображение одного и того же события (факта, объекта) с двух разных точек зрения, в двух (и более) перспективах. Это – отказ автора от окончательного разрешения (провидения, фиксации) как судеб героев, так и судьбы мира (именно с такой двойственностью мы сталкиваемся в «Мы», в «Чевенгуре», если брать ближайших современников Булгакова). У Булгакова есть варианты сюжетного развития любовной линии романа, но и судьба Мастера, и судьба Пилата разрешены однозначно: оба обретают покой и свободу. Покой обретает и Иван, но покой несвободы (механического повседневного существования в профессорском обличье), покой забвения, утраты памяти (Булгаков не случайно снял последний абзац последней главы романа, где речь шла об угасании памяти Мастера!33).
Две версии конкретизации посмертной участи Мастера – «Вечный Дом», идиллический приют вдохновенья в царстве теней, который обещают Мастеру Воланд и Маргарита (вряд ли Дьявол здесь лжет – ведь он хочет выполнить просьбу Иешуа), и – восхождение под водительством Вечной Женственности в область Света, привидевшееся Ивану, воплощают смятение самого Булгакова, в последние месяцы жизни сосредоточенного на мысли «что там, за гробом?»34. Читателю только остается гадать (а не выбирать!)… В какой мере здесь проявилась двойственность позиции автора, а в какой – вариативность прагматического (а не сущностного) завершения сюжета? Забвение, утрату Мастером своего «я» писатель, в конечном счете, отверг, но и восхождение (вполне в соответствии с масонским учением) Мастера в область света – к луне – представил как наркотическое видение его несостоявшегося ученика. Более того: финал Эпилога с его «эпическим повтором», отсылающим к сочинению Мастера, построен так, чтобы создать впечатление, что неким наркотическим сном является и весь дочитываемый читателем роман, уходящий на дно памяти Ивана, подобно тому как за спиной летящего в свите Воланда Мастера уходит в землю, оставляя по себе только туман, Москва… История закончена. «Все кончилось и все кончается» (384). Роман «Мастер и Маргарита» свивается «как свиток», один текст «запаковывается» в другой, этот, другой, окольцовывает первый… И вновь восстанавливается нерушимая граница между художественным вымыслом и реальностью, романтическим воображением и прозой жизни.
Примечания1 См. об этом: Чудакова М. Жизнеописание Михаила Булгакова. М.: Книга, 1988. С. 481.
2 См., например, главу «Романтическое ви?дение» из книги Джулии Кертис «Последнее десятилетие Булгакова: писатель в роли героя» (Curtis J. A. E. Bulgakov's Last Decade: The Writer as a Hero. Cambridge, 1987. Русский перевод в журнале «Литературное обозрение» (1991. № 5), посвященном 100-летию со дня рождения М. А. Булгакова. См. также: Есипова О. Пьеса «Дон Кихот» в кругу творческих идей М. Булгакова // М. А. Булгаков-драматург и художественная культура его времени. М.: Союз театральных деятелей РСФСР, 1988.
3 Здесь и далее цитируется по изданию: Булгаков М. Собрание сочинений. Т. 5. 1990. М.: Художественная литература. Ссылки на страницы – в тексте главы.
4 Здесь и далее цитируется по русскому переводу, которым, скорее всего, пользовался Булгаков: Сервантес Сааведра Мигелъ де. Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский / Пер. под ред. и с вступ. ст. Б. А. Кржевского и А. А. Смирнова: В 2 т. М.; Л.: Асаdemiа, 1934–1935. (Первое издание: 1929–1932). Цитируемые том и страницы указываются в тексте главы.
5 Буквальная транслитерация испанского написания имени библейского героя: Sanson, которое Булгаков воспроизвел по испанскому тексту романа Сервантеса, бывшему у него под рукой. Булгаковское написание имени Самсона Карраско сглаживает пародийное звучание оригинала, в котором имя библейского героя соединяется с фамилией, означающей название низкорослого дуба (что-то вроде Самсон-дубок). Еще одна попытка Булгакова возвысить противника Дон Кихота?
6 «Эта пьеса, – справедливо отмечает А. Кораблев, – может быть наиболее личная. Маска полубезумного странствующего рыцаря, избранная автором на этот раз, оказалась исключительно удачным и естественным дополнением его литературного портрета. В монологах Дон Кихота слышатся интонации, знакомые нам по самым задушевным и пронзительным строкам булгаковских романов» (Кораблев А. Время и вечность в книгах М. Булгакова // М. А. Булгаков-драматург и художественная культура его времени. Указ. изд. С. 53).