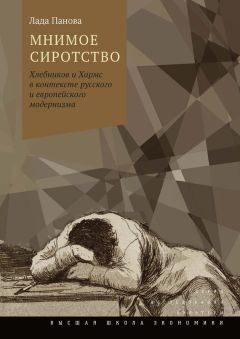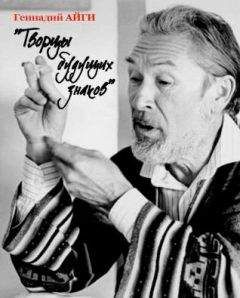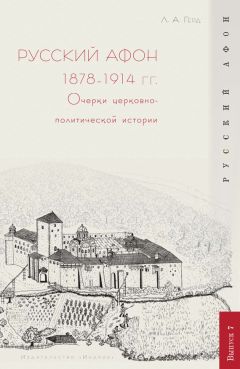Светлана Пискунова - От Пушкина до Пушкинского дома: очерки исторической поэтики русского романа
И этот персонаж превращается в пьесе Булгакова в благородного юношу, в духе того времени – в крестьянского сына, сумевшего благодаря усердию и таланту получить университетское образование и, само собой, вернувшегося из города в родное село. И хотя у булгаковского Дон Кихота и вырываются слова о том, что Самсон – «жестокий рыцарь» (222), в конечном счете он признает своего победителя «наилучшим рыцарем из всех» (220), с кем ему приходилось встречаться во время своих скитаний.
Конечно, подобное переосмысление образа Самсона Карраско, всерьез трактуемого как герой-избавитель, можно попытаться объяcнить и тем, что Булгаков стремился с максимальной добросовестностью воспроизвести в фабуле пьесы отдельные сюжетные ходы Второй части «Дон Кихота», а также следовал сложившейся традиции инсценировок романа. Но рискнем предположить иное: Самсон Карраско был выдвинут Булгаковым на первый план и возвеличен как герой именно потому, что воплощал в романе Сервантеса то миростроительное начало, которое во многом импонировало и Булгакову.
Как свидетельствуют исследования Э. Перкас де Понсети10, Самсон Карраско является в романе Сервантеса живым воплощением духа аристотелизма, под влиянием которого и в полемике с которым складывалось и развивалось зрелое творчество Сервантеса, изначально ориентированное на ренессансно-неоплатоническое видение мира. Впрочем, точнее было бы говорить о духе неоаристотелизма, поскольку речь идет не о философии Аристотеля как таковой, а о ее рецепции в рационалистической культуре Нового времени. О том мощном эстетическом течении, которое возникло в период кризиса Возрождения и стало одним из главных факторов духовной жизни Европы в так называемую «эпоху маньеризма», о поэтике, которая базировалась на аристотелевской идее искусства как подражания («мимесиса»).
Аналитический, завершающе-исчисляющий разум, «опыт» – постоянно соизмеряющий Книгу и Жизнь, образы искусства и реальность – вот что определяло ментальность европейских интеллектуалов начиная со второй трети XVI века. В эстетике неоаристотелизма эта ментальная установка воплотилась в идеал правдоподобного вымысла – «поэтического» (вымышленного) повествования, которое обладало бы всеми атрибутами повествования «исторического» (истинного). Сделать это было необходимо для осмысления опыта нового, на их глазах рождающегося жанра – романа (хотя термином этим в современном значении слова они еще не пользовались, а говорили о «прозаической эпопее»). Именно в романе (точнее, в романе Нового времени, а не в «книгах о рыцарстве» – libros de caballerнas, которые только много позднее будут названы «рыцарскими романами») строгая аристотелианская дихотомия «поэзия – история» подменяется динамической оппозицией «мир романа – мир реальности», оба члена которой то и дело меняются местами, свидетельствуя тем самым о взаимной проницаемости обоих миров. Однако эту внутреннюю подвижность разных планов романа неоаристотелики (да и вся новоевропейская эстетика доромантической поры) уловить не смогли. Поэтому последователи Аристотеля старались как бы совместить оба мира – реальности и «романа» – в одной плоскости (ср. программу создания «совершенного» рыцарского романа, изложенную каноником-аристотеликом в ХLVIII главе Первой части «Дон Кихота»). Тем самым неоаристотелизм в конечном счете подчинял воображение (поэзию) власти действительности.
Необходимость такого подчинения – навязчивая идея Булгакова второй половины 30-х годов. Об этом выразительно свидетельствуют не только развязка пьесы «Дон Кихот» (в которой герой, жертвуя своей душой, благодарно капитулирует перед стальным взглядом беспощадного Самсона), но и подчеркивания Булгакова в статье И. Миримского о Гофмане, которую писатель с жадностью перечитывал летом 1938 года – как раз во время дописывания «Дон Кихота»: «Если гений заключает мир с действительностью, – пишет Миримский и подчеркивает Булгаков, – то это приводит его в болото филистерства….если же он не сдается действительности до конца, то кончает преждевременной смертью или безумием»11. Дон Кихот Булгакова не заключает мира с Карраско: он сдается ему до конца, спасаясь от безумия – но не от смерти.
По неоаристотелианским канонам и был написан последний, посмертно опубликованный (в 1617 году) авантюрно-аллегорический роман Сервантеса «Странствия Персилеса и Сихизмунды»12, который он создавал параллельно с «Дон Кихотом» и считал лучшим своим творением. Напротив, «Дон Кихот», в отличие от аристотелианского «Персилеса», – роман, в котором аристотелианская модель художественного творчества, декларируемая Самсоном в качестве идеала13, оказывается отвергнутой: эстетика «подражания» здесь подчинена эстетике «изобретения» (inventio), вымысел творится без соблюдения законов правдоподобия, художественная целостность определяется не тем, что автор находится в центре повествования и держит в руках все его нити: она возникает в сознании читателя всякий раз заново, в процессе пересозидающего чтения текста. Эстетика правдоподобия в «Дон Кихоте» то и дело подвергается ироническому осмеянию, а носитель духа аристотелизма Самсон Карраско – при всем, впрочем, сомнительном, благородстве своих намерений – отнюдь не герой Сервантеса. Но он – герой Булгакова, герой булгаковской пьесы, которая во многом оказывается своеобразной аристотелианской транскрипцией сервантесовского романа.
И такой поворот нам кажется далеко не случайным. Ибо Булгаков-«мистик», «трижды романтический мастер», предстает в свете творчества Сервантеса не только продолжателем романтической традиции (этого его амплуа мы отрицать не собираемся!), но и законным наследником рационализма Нового времени, включающего в себя и европейский неоаристотелизм ХVI – ХVII веков, и реалистическую эстетику правдивого мимесиса.
Органичное сосуществование романтического, «метафизического» и «физического», научно-экспериментаторского подходов в художественном мышлении Булгакова может быть объяснено тем, что для творца «Белой гвардии» и «Мастера и Маргариты» XIX век, на который его проза была преимущественно сориентирована, был притягателен как единая культурно-историческая эпоха во всей ее антитетической целостности, неразложимая на брандесовско-школярские стили и направления, борющиеся друг с другом и сменяющие друг друга во времени.
К сожалению, проблема XIX столетия как культурно-исторической эпохи поставлена сравнительно недавно14, и здесь не место и не время пытаться хотя бы набросать контуры ее решения15. Но нельзя не заметить, что, говоря о XIX веке как об эпохе, как о внутренне структурированном целом, мы предполагаем, что и романтизм, и реализм, и все другие «измы» этого «столетия», протянувшегося от французской революции до первой мировой войны, при всей их внешней непримиримости исходили из неких общих представлений о месте человека в мире и о мире как таковом. Сегодня культура XIX века предстает перед нами как диалог двух основополагающих тем: темы «самости», объективной сущности реального мира (пускай для романтиков «действительное» – тюрьма, плен, гнет грубого материального мира, для реалистов – жизнь, законы которой следует познать, для натуралистов – «реверс» романтического Рока, непреодолимые оковы плоти и социума) и – диалектически дополняющей ее темы свободы (пускай, опять-таки, у романтиков свобода индивида возведена в абсолют, пускай реалисты сопрягают ее с темой ответственности «я» и «правды» жизни, а натуралисты вроде бы и вовсе перечеркивают, хотя сама их маниакальная сосредоточенность на опровержении идеи «человек – существо свободное» выдает в них «детей» своего времени). Обе эти темы, сконцентрированные в открывающем двадцать первую главу романа Булгакова возгласе Маргариты «Невидима и свободна!» и в возгласе Мастера «Свободен!», обрушивающем в последней главе скалистые стены тюрьмы Понтия Пилата, образуют основные координаты художественного мира Булгакова – продолжателя духовных и эстетических традиций XIX столетия16.
Конечно, как отмечала М. Чудакова17, демонстративное следование Булгакова заветам минувшего века коррелировало с его бытовой, жизненной выброшенностью за границы этой эпохи и ее культурного космоса. Однако, быть может, именно трагическая разлученность писателя со своей духовной родиной, его обреченность увидеть – подобно Борису Пастернаку – XIX столетие разбившимся о «плиты общежитий» только и могли создать перспективу, в которой «вечный дом» Мастера был бы виден во всех подробностях, со всеми его атрибутами – от реторты естествоиспытателя до романтической свечи у открытого рояля.
Вот так же, уже издалека, из праздничной суеты торжествующего XVII века, всматривался Сервантес в образы мистического и героического века XVI-го, века испанского Возрождения. Всматривался, сознавая правду Нового времени и оставаясь верным духовным заветам Ренессанса, ренессансному «мифу о человеке» (Л. М. Баткин). Эта двухфокусная оптика и породила особый строй сервантесовского романа, являющего собой «контрапункт» эмпирического реального мира и «романа сознания» Дон Кихота, «критического сознания нового времени и "онтологического" сознания странствующего рыцаря»18. В то же время, мир «романа» Дон Кихота и реальный мир у Сервантеса не только контрапунктны, но и взаимопроницаемы (даже взаимообратимы!), и эта их взаимопроницаемость, разрушение границ «книги» и «жизни», «рыцарских бредней» и «истинной истории» Рыцаря Печального Образа перечеркивает аристотелевское противопоставление Поэзии и Истории. Напротив, вплоть до последних глав «Мастера и Маргариты»19 Булгаков придерживается разграничения20 его основных повествовательных планов21 – «романа Мастера» и «романа о Мастере», или так называемых «московских» и «ершалаимских» глав. Это разделение соответствует обозначенной дихотомии Поэзия / История с той, однако, оговоркой, что «московские» главы романа Булгакова, которые, казалось бы, должны соотноситься с современностью и повседневностью, созданы по законам Поэзии, то есть пародийно-игрового, «фантазийного» вымысла, а главы «ершалаимские», отделенные от автора и читателя огромным временем и пространством, преодолеваемыми лишь творческим воображением, выстраиваются по законам Истории – как повествование о действительно бывшем. Мастер, а вместе с ним и создатель «Мастера и Маргариты» убеждены в том, что исторические события (предательство Иуды, трусость Пилата, казнь Иисуса Христа) могут и должны быть запечатлены – со всеми подробностями и деталями – в не терпящем двусмысленных толкований единственном тексте, тексте, содержащем в себе всю истину22. Таковым текстом и является «роман о Пилате», который Мастер провидел, «угадал», то есть не сочинил, а как бы записал под диктовку Высших Сил, избравших его (а не Левия Матвея!) «транслятором» Истины. Поводом же для избрания Мастера на эту роль служит несомненное сходство его судьбы и его личности с судьбами и личностями обоих главных участников событий, разыграв шихся в Ершалаиме в дни ареста и распятия Иисуса Христа, равно как с судьбой и личностью самого Булгакова. То есть героев романа Булгакова (а также самого автора) связывает известная из «Дон Кихота» цепь двойничества (подразумевающего и контрастные противопоставления персонажей друг другу и своему творцу).