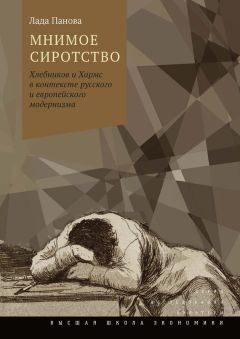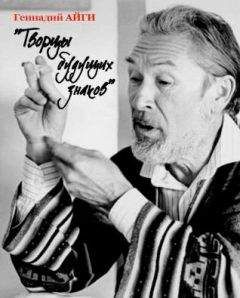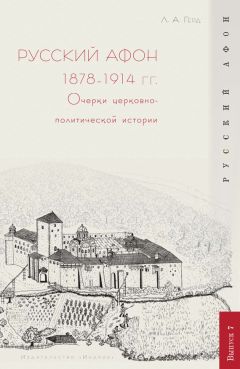Светлана Пискунова - От Пушкина до Пушкинского дома: очерки исторической поэтики русского романа
27 Исследователи предлагают разные версии деления романа на «части», лишь одна из которых – повесть «Происхождение мастера», – будучи опубликованной отдельно (1928), – была «обозначена» автором как внутренне завершенный текст. Мы считаем, что таких частей в «Чевенгуре», по меньшей мере, – четыре: «Происхождение мастера», странствия Дванова, обрамленные встречей с Копенкиным и временным разлучением с ним, когда тот отправляется в Чевенгур (часть, наиболее соответствующая первоначальному названию романа – «Путешествие с открытым сердцем»), история чевенгурской коммуны, в которой повествование выстраивается преимущественно с точки зрения то Чепурного, то Копенкина, наконец, «вечер» Чевенгура, совпавший с прибытием Александра Дванова в город (в эту часть включена новелла о Сербинове и двойная развязка романа).
28 Впервые этот мотив, как и образ ветряной мельницы, возникает в начале странствий-испытаний Дванова: именно от такой раны умирает красноармеец на руках Дванова, идущего пешком на Лиски.
29 См.: Dudley E. Op. cit.
30 Именно к «Ланселоту-Граалю» – через более поздний цикл «Тристан в прозе» – восходит «Амадис Гальский» (1508), один из главных объектов сервантесовской пародии.
31 О том, что «Смерть Артура» является сочинением «переходным» – от цикла из восьми романов-частей к «автономному роману Нового времени», см.: Мортон У. Артуровский цикл и развитие феодального общества // Мэлори Т. Смерть Артура. М.: Наука, 1974. С. 826 и сл.
32 О Чевенгуре как о загробном мире некогда писали В. М. Пискунов и автор этих строк в статье «Сокровенный Платонов» («Литературное обозрение». 1989. № 1), переизданной в кн.: Пискунов В. М. Чистый ритм Мнемозины. М.: Альфа-М, 2005.
33 «Райский» статус Чевенгура подчеркивает и аллегорическая фигура нищего Фирса – змея, буквально приползшего в город и «успокоившегося» на подступе к нему.
34 Обе ипостаси Чевенгура – «рай» и «ад» – объединяет его низинное положение, если вспомнить о древней мифологеме «подземного рая», отразившейся и в «Дон Кихоте», в частности, в рассказе о спуске героя в пещеру Монтесиноса – ключевом эпизоде Второй части романа.
35 О связи образа Александра Дванова со стихией воды писали Л. В. Карасев, М. А. Дмитровская, К. А. Баршдт.
36 Михайлов А. Д. Артуровские легенды и их эволюция // Мэлори Т. Смерть Артура. Указ. изд. С. 797.
37 Как уже было отмечено, у Платонова почти все герои в той или иной степени являются двойниками (в том числе и двойниками-антагонистами) и между ними происходит постоянное перераспределение унаследованных функций (библейских, фольклорных, литературных).
38 См. также: Семенова С. «Тайное тайных» Андрея Платонова (Эрос и пол) // «Страна философов» Андрея Платонова: проблемы творчества. М.: ИМЛИ РАН, 1994. С. 104.
39 Ясно, что в годы написания «Чевенгура» (как и позднее) сакральность Москвы обеспечивалась, в первую очередь, могилой-мавзолеем.
40 В «Дон Кихоте» сакральный центр рыцарской утопии перемещается в подземный мир – в пещеру Монтесиноса, где Дон Кихот то ли во сне, то ли наяву лицезреет вынос сердца Дурандарте – шествие, пародирующее вынос дарохранительницы в день Тела Христова.
41 Все эти особенности поэтики (антипоэтики?) Платонова уже зафиксированы в работах Е. Толстой-Сегал 1970-х годов, писавшей о «перспективе серьезного осмысления комического», организующей платоновское, «пронизанное амбивалентностью и иронией повествование» (Толстая-Сегал Е. Указ. соч. С. 287). «Для Платонова, – отмечала исследовательница, – „искренность“ тесно связана с отталкиванием от позиции профессионального литератора. Сознавая обязательность отождествления со своими персонажами как условие „искренности“, Платонов остро чувствовал и художественный потенциал „непрофессионального“, не оформленного жанрово – в рамках существующих жанров – повествования» (там же, 293).
42 Ср.: Арсентьева Н. Н. Указ. соч.
43 См.: Вьюгин В. Ю. Андрей Платонов: поэтика загадки (очерк становления и эволюции стиля). СПб.: Пушкинский Дом, 2004.
44 См.: Красовская С. И. Художественная проза А. П. Платонова. Жанры и жанровые процессы. Благовещенск, 2006.
45 Там же. С. 354.
46 Исследователи идеологического контекста творчества Платонова (см., например, труды Х. Гюнтера) вспоминают о Средневековье достаточно часто, выявляя ориентацию писателя на сложившиеся еще в Средние века, а то и значительно раньше, верования, такие как хилиазм и милленаризм, ереси альбигойцев и богомилов.
47 Такой опыт предпринял А. А. Харитонов (см.: Харитонов А. А. Архитектоника повести А. Платонова «Котлован» // Творчество Андрея Платонова: исследования и материалы. Библиография. СПб., 1995) при анализе повести «Котлован», обратившись к «Божественной комедии» Данте.
48 См.: Эпштейн М. Бог деталей. Народная дума и жизнь в России на исходе империи. М., 1998.
49 Cм.: Багно В. Е. Указ. соч.
50 См.: Красовская С. И. Указ. соч. С. 353.
51 Красовская мельком также отмечает, что «всевозможные мифологические модели цикличности влияли на литературу античности, средневековья и эпохи Возрождения» (там же, 159), но расцвет цикла в литературе она сугубо теоретически почему-то связывает с искусством Нового времени: «с конца XVIII века циклизация как процесс создания циклов и специфическое свойство художе ственного мышления становится особой приметой художественного творче ства» (там же). Здесь можно было бы вспомнить, что среди русских классических романов XIX века существует единственный роман-цикл – «Герой нашего времени». Но те теоретики, за которыми следует Красовская, по-видимому, имеют в виду нечто иное, свое… Другое дело – русская литература 20-х годов XX столетия, в которой – и здесь Красовская приводит множество убедительных доказательств – «эпический цикл… функционально фактически заменил роман как жанр» (там же, 350). Что, скажем, отнюдь не удивительно: ведь началось «новое Средневековье» (Н. А. Бердяев).
52 См.: Бочаров С. Г. О художественных мирах. Указ. изд.
53 См.: Толстая-Сегал Е. Указ. соч. С. 288.
54 Современная критика (см.: Карасев Л. В. Указ. соч.; Вьюгин В. Ю. Указ. соч.; Баршдт К. Указ. соч.) все чаще и не без оснований ставит это однозначное прочтение под сомнение.
55 См., например: Золотоносов М. Ложное солнце: «Чевенгур» и «Котлован» в контексте советской культуры 1920-х годов // Вопросы литературы. 1994. Вып. 5.
56 Ср. выразительнейшие диалог Якова Титыча с зарубившим его затем «солдатом на коне» и разговор Сербинова с тем же «кавалеристом»: «Сербинов поднял на него револьвер. „Ты чего? – не поверил солдат, – я же тебя не трогаю!“ Сербинов подумал, что солдат говорит верно, и спрятал револьвер. А кавалерист вывернул лошадь и бросил ее на Сербинова…» (362–363).
57 См.: Багно В. Е. Указ. соч.
58 В свое время по схожему пути пошли В. М. Пискунов и автор этих строк (см.: Пискунов В. М. Чистый ритм Мнемозины. Указ. изд.), увидевшие в рассказе о гибели чевенгурской коммуны сюжетно развернутую парафразу известного стихотворения Э. Багрицкого «От черного хлеба и верной жены…», по настроению очень близкого платоновской ностальгии по прошедшей революции и неприятию наступающего сытого бездуховного времени. «…Чьи кони по ржавчине нашей пройдут?. Потопчут ли нас трубачи молодые?.» – с горечью вопрошал поэт. Прошли, потоптали, – отзывался поэт-прозаик. Это прочтение и сегодня кажется нам имеющим право на существование.
59 И взявшая кое-что от коварной Вивианы – губительницы Мерлина.
60 См.: Бочаров С. Г. Указ. соч.
61 К. Гинзбург (см.: Ginzburg C. Wooden eyes. Nine Reflections on Distance. London; New York: Verso, 2002. P. 78) связывает появление идеи репрезентации, лежащей в основе всего искусства Нового времени и жанра романа, в частности, с институционализацией таинства евхаристии в Западной Европе на рубеже XII–XIII веков.
Сервантес и булгаков
Появление рядом с именем Мигеля де Сервантеса имени другого Михаила – Булгакова, мастера, незадолго до смерти создавшего пьесу по мотивам «Дон Кихота» и умиравшего с названием романа Сервантеса на устах1, – вполне естественно. Как естественно и то, что всякое рассуждение на тему «Сервантес и Булгаков» исходит из анализа упомянутой пьесы2.
Однако как объяснить то, что в булгаковских текстах, особенно в таком насквозь «цитатном» романе, как «Мастер и Маргарита», где, кажется, присутствует вся история мировой словесности, а в главе 28-й упоминается и роман Сервантеса, практически нет иных отголосков и явных следов сервантесовского повествования? Конечно, именно к Сервантесу, в конечном счете, восходит укоренившийся в европейском романе принцип включения автора в повествование на правах собеседника читателя, хотя творцу «Мастера и Маргариты» он, очевидно, достался не прямо от Сервантеса, а от Гоголя. Общепризнан и тот факт, что жанр «романа о романе», являющийся не просто разновидностью древнейшей повествовательной структуры «текст в тексте», но коренным образом меняющий отношения внутри оппозиций литература / жизнь, вымысел / реальность, автор / герой, сложился под пером создателя «Дон Кихота». Конечно, и тема «мудрого безумия» сущностно связана с сервантесовским романом, но не только с ним, а с тем же «Гамлетом» и с карнавализированной литературой в целом. Но в «безумцах» «Мастера и Маргариты» – в Мастере и его Ученике – нет и следов «донкихотизма»: ведь в «донкихотскую ситуацию» неотъемлемо включен мотив безрассудной отваги рыцаря, в то время как линия судьбы Мастера связана с темой изживания греха трусости, искупления собственного малодушия. В сумасшедший дом – клинику Стравинского – его приводит, как известно, не донкихотовское пренебрежение какими бы то ни было опасностями, а доводящий «до исступления» страх – та самая эмоция, которая не раз комически обыгрывается у Сервантеса в контексте благоразумия Санчо. И нельзя представить себе ничего более противоречащего духу «донкихотизма», нежели полные благоразумной осторожности слова булгаковского Дон Кихота, обращенные к оруженосцу: «…Очень хорошо, что ты догадался сдаться. Ты поступил, Санчо, как мудрец, понимающий, что в отчаянном положении самый храбрый бережет себя для лучшего случая…» (161)3. Приведенная сентенция является парафразой слов и впрямь имеющихся в романе Сервантеса: «…удалиться не значит бежать, а дожидаться врага, когда опасность превосходит все предположения, – это просто безумие; благоразумие велит беречь себя сегодня для завтра и не ставить все на карту в один день» (I, 308)4. Совпадение – почти полное, разница лишь в том, что у Сервантеса эти слова принадлежат не Дон Кихоту, а Санчо и служат его ответом на упреки хозяина, что он, Санчо, «трус по природе».