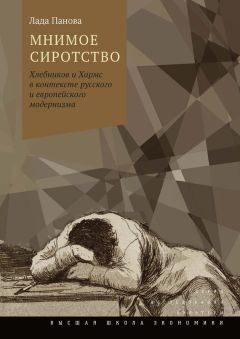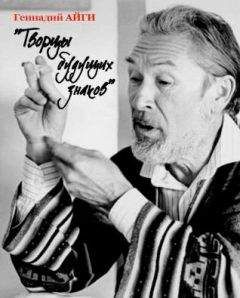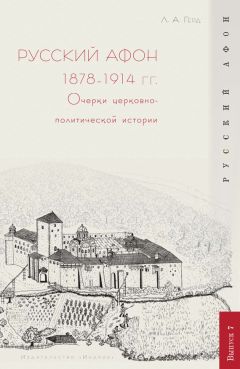Светлана Пискунова - От Пушкина до Пушкинского дома: очерки исторической поэтики русского романа
Трудно сказать, какие именно пассажи в размышлениях Набокова о романе Сервантеса смогли привлечь внимание Андрея Битова, автора вступительной заметки к изданию лекций Набокова о зарубежной литературе на русском языке, к некогда уже читанному им, согласно его собственному признанию, «Дон Кихоту»37. Думается, прежде всего, этот: «У Сервантеса, сочинявшего книгу, словно чередовались периоды ясности и рассеянности, сосредоточенной обдуманности и ленивой небрежности, что очень похоже на полосатое (так в переводе: по-русски было бы правильно „перемежающееся“) помешательство его героя. Сервантеса спасала интуиция. Книга… никогда не предносилась автору в виде законченного сочинения, стоящего особняком, полностью отделившегося от хаотического материала, из которого она выросла…»38.
Ведь таков и творческий метод самого создателя «Пушкинского Дома», так или иначе, но независимо от Набокова39, возродившего в русской литературе во второй половине XX столетия почти полностью прерванную традицию «романа сознания»40 – а значит и романа «сервантесовского типа». Впрочем, образ видения мира, характерный для «романа сознания», сложился уже в созданных до «Пушкинского Дома» рассказах и повестях Битова, в том же «Саде», или в «Жизни в ветреную погоду».
«Он водил сына по поселку, как по огромному букварю… Вот луг, вот мальчик, а вот поезд… И это все было действительно так… все это на какое-то длящееся мгновение, совпав на одной прямой, образовало как бы ось, и в этом была словно бы самая большая правда из всех, что он с упорством искал и находил… ощущение этой симметрии было из чувств самых счастливых. Это был пик, вершина, взрыв, и в следующий миг то ли поезд уехал, то ли мальчик сошел с места, то ли корова… ось распалась, и Сергей ощутил блаженное опустошение: он существовал теперь и в этой зелени луга, и в том мальчике на лугу, и в поезде, уезжающем от него, и в небе, и в сыне, в каждом и во всем. Жизнь его, взорвавшаяся, разбрызганная, как бы разлилась и наполнила все содержанием и жизнями. Он чувствовал себя богом, нигде и во всем, обнимавшем и пронизывающем мир» («Жизнь в ветреную погоду. Дачная местность»)41.
Следом за мигом слияния с бытием, мигом выхода в сферу сознания, происходит психологически-мотивированное возвращение в «реальность»: «Сергей выделил себя крохотной точкой в пространстве и был как бы пьян» (Жизнь в ветреную погоду. Дачная местность).
Сюжетная ситуация выхода героя в сферу сознания в «Пушкинском Доме» связана (как это было и в «Петербурге» Андрея Белого) с мотивом взрыва: «Ибо для чего… все отдвигающийся сюжет, если не для того, чтобы взорвать все это накопленное изнутри, и тем хотя бы пролить на все яркий, пусть мигом исчезающий свет: свет взрыва!» (218)42.
В цепи эпизодов-прозрений, растянувшейся на конец второй части романа (глава «Госпожа Бонасье») и почти на всю третью часть, ключевыми станут два пробуждения Левы Одоевцева: первое – после ночи, проведенной в Пушкинском Доме накануне праздничного дня «7 ноября», второе – утром «восьмого ноября 196… года», где прозвучат два «выстрела» (эквиваленты взрыва): «хлопушечный» «выстрел» музейного пистолета Митишатьева, ставший причиной фарсовой смерти героя романа43, и «выстрел» «сознания» героя, приходящего в сознание со стороны реального «небытия».
Можно сказать, что еще до А. Пятигорского (или с ним одновременно) Андрей Битов в «Пушкинском Доме» определил основные параметры «романа сознания». И, конечно же, осью его размышлений оказалась проблема соотношения Автора и героя, их магической связи, их сущностного двойничества, равно как и, казалось бы, неисцелимого несовпадения во времени – прошлого времени существования героя и «авторского» настоящего, включающего и время создания текста романа: «Настоящее время губительно для героя… Уже задолго до окончательной гибели нашего героя реальность его литературного существования начала истощаться, вытесняясь необобщенной, бесформенной реальностью жизни44 – приближением настоящего времени» (317). Вместе с тем, нарастающее к концу романа вытеснение реальности книги реальностью жизни демонстрирует сближение Автора и героя – человека, наделенного даром проникновения в чужой текст как единственной для него возможности приобщения к другому «я», даром, оплаченным неспособностью слышать и понимать реального, живого собеседника: так в «Пушкинском Доме» складывается классическая «донкихотская» ситуация, когда книжные (интеллигентские) мифы о людях, фантомы, созданные воображением, заслоняют в глазах Левы истинный облик других людей.
Двусмысленная смерть-воскресение Левы Одоевцева становится для повествователя очередным спасительным взрывом, схлопывающим сотворенную им вселенную в точку начала повествования, оказывающуюся тем самым и точкой его фабульного завершения. Правда, далее следует… возможное продолжение. Ситуация, опять-таки, хорошо известная из «Дон Кихота».
В точке начала / конца повествования время автора и героя чудесным образом совпадают. Но ведь и автор «романа сознания» – не просто творец героя, а его дублер, тот, кто пишет вслед за ним его «роман жизни»… На крайний случай – филологическое исследование. Такое, как статья Левы «Три пророка», опубликованная Битовым в научном журнале под собственным именем45. Или как не осуществленный Левой мегазамысел – труд «"Я" Пушкина», воплощенный Битовым в книге «Предположение жить» много лет спустя.
«Точка боли»: так названа давнишняя статья о романе «Пушкинский Дом» Ю. Карабчиевского. Для поэта наличие у героя Битова этой точки – единственное, но и очень значимое оправдание его компромиссно-бесформенного существования, его двойственной сущности. Но «точка боли» и есть точка взрыва, свет, просвет, озарение…
Отношения сближения / отталкивания связывают не только автора и героя, но и всех героев Битова между собой. У Левы Одоевцева есть и свой «самсон карраско» – Митишатьев, завистник, имитатор, узурпатор, мнимый друг, побеждающий Леву в решительной схватке-дуэли. Правда, цель Карраско – заставить Дон Кихота отречься от своего рацарского звания, в то время как Митишатьев, издеваясь над Левой, парадоксальным образом желает утвердить в Леве его «княжеское» достоинство. Но главный смысл испытаний, через которые проходит герой Битова, – пробудить это чувство, утраченное за десятилетия лжи и приспособленчества, в читателе романа.
В СССР на рубеже 1960-х – 1970-х годов творчество Битова (как и ряда других писателей) знаменовало своего рода второе пришествие модернизма с его сосредоточенностью на феноменальном, с его интересом к человеку, блуждающему в «тумане» иллюзий и разочарований, одержимого неистребимой тягой к тому, чтобы обманывать самого себя. И в то же время – в отличие от постмодерна – продолжающего искать подлинность. Живую реальность жизни.
Примечания1 См., например, дискуссию об авангарде в журнале «Русская литература» (2009. № 1).
2 Alter R. Partial Magic: the Novel as a Self-conscious Genre. Op. cit.
3 Ведущий представитель этого направления в сервантистике – недавно скончавшийся (2010) известный английский сервантист Э. Клоуз (A. Close).
4 См. прим. 13 к наст. главе.
5 В действительности Достоевский не отказывается от воссоздания человека в его психофизиологическом, социально-бытовом, религиозно-этическом и других «измерениях», предпочитая, однако, такие сюжетные ситуации, когда человек оказывается как бы независим от своих «обстоятельств». Герой «романа сознания», в конечном счете, подчиненен не «миру», а иной, высшей, «воле» – воле к самосознанию, к свободе, к бессмертию, которой Господь наделил сотворенного им человека: этот жест повторяет и автор-творец «Братьев Карамазовых».
6 Об антипсихологизме Достоевского Бахтин подробно пишет на стр. 81 и сл. первого издания «Проблем поэтики Достоевского» (1963).
7 Отсюда – все недопонимания идей М. Бахтина со стороны тех исследователей, для которых такого разграничения нет и которые, якобы в опровержение Бахтина, с успехом демонстрируют точность и тонкость наблюдений Достоевского-психолога (можно было бы добавить: социолога, антрополога и т. д.).
8 Мамардашвили М. К. Лекции о Прусте (Психологическая топология пути). Далее цит. по электронной версии: http//www.philosophy.ru/library/mmk/topologi. html.
9 «Философия одного переулка» (1990), «Вспомнишь странного человека…» (1999).
10 Пятигорский А. Вспомнишь странного человека… М.: Новое литературное обозрение, 1999. С. 174–175.
11 Следует отметить, что в качестве такового он предстает в составе целого, образованного Первой и Второй частями («Дон Кихотом» 1605-го и «Дон Кихотом» 1615-го года), так как процесс взаимопроникновения книги и жизни, «идеального» (субъективного) и «реального» (материально-предметного) планов бытия, сознания и «мира», комически сопоставленных в «Дон Кихоте 1605-го года, вполне осуществляется на страницах Второй части (см. также прим. 25 к наст. гл.).