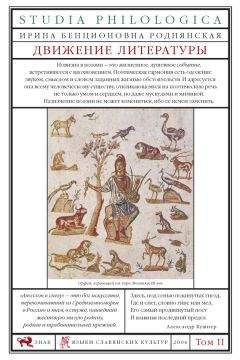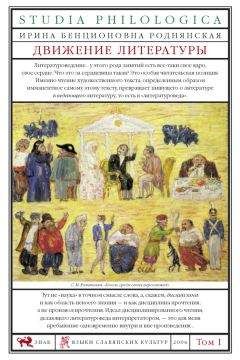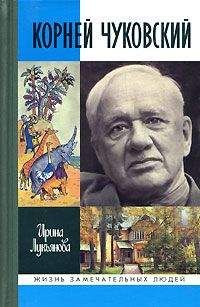Движение литературы. Том I - Роднянская Ирина
Однако было бы наивно объяснять брак лиризма с вещностью исключительно влиянием на жизнь массового производства, его щедрых соблазнов и пороков. Чтобы учесть неточность этой социологической проекции, надо вспомнить, что, если умножение вещей в их количестве и разнообразии и могло вызвать определенную перестройку поэтического мира, то оскудение вещами нисколько эту перестройку не задержало, наоборот – обострило. «Серная спичка», которая могла бы согреть зябнущего на задворках жизни поэта, – тоже новая вещь, и притом доросшая уже до символа, поэтически куда более значительная, чем «алмазные сливки иль вафля с начинкой» в ранних стихах того же автора – Осипа Мандельштама. Когда вещи по-новому прочно вошли в лирику, выяснилось, что им не надо быть ни красивыми, ни вызывающе пошлыми, ни технически удивительными – им достаточно быть простыми, так сказать, демократическими вещами, чтобы конденсировать энергию лирического чувствования. Какой-нибудь «выкройки образчик» становится свидетелем лирической драмы, как «цветок засохший», и у Пастернака (герой чьих стихов плачет над этой «выкройкой») именно «уклад подвалов без прикрас и чердаков без занавесок» облекается высшим лирическим достоинством.
Дело, по-видимому, еще было в общей переориентировке внимания с вечного на текущее, которую переживает культура накануне Первой мировой войны. В какой-то момент культурной истории вечные темы лирики – природа, любовь, смерть, душа, Бог – зацепились за мир созданных человеком вещей и уже словно бы не могли обрести себе выражение в обход этого мира. Так, у Анненского смерть сопряглась с фенолом, которым предохраняют от тления мертвое тело. Это современная смерть, современный ужас смерти, вечная тема, пропущенная сквозь сегодняшнее: «… левкоем и фенолом / Равнодушно дышащая Дама». (Решимость лирики в таких вещах подстегивалась, конечно, романом; всем памятна жуть заключительной сцены «Идиота», где Рогожин объясняет Мышкину, как он накупил склянок с дезинфицирующей жидкостью, чтобы тело Настасьи Филипповны подольше сохранилось.)
Сюда же надо добавить сдвиг мысли, «любомудрия» от натурфилософии к культурфилософии. Позволю себе каламбур: от твари к утвари. Поэзия впрямую не зависима от философских интересов своего времени, но все же соотносительна с ними. «Лирику природы» потеснила неожиданно отвоевавшая себе много места «лирика культуры», и, главное, оба мира стали взаимопроницаемы и равноправны. Мало того что Природу можно стало сравнивать с Римом и пояснять ее сущность его историческими контурами (ранний Мандельштам), что в лесе стала чудиться колоннада, а не обратно (ранний Пастернак). Но и в самой «лирике культуры» было погашено философски влиятельное различение между культурой и цивилизацией – культурой, которая органически сопутствует природе, и цивилизацией, которая ей противоположна. В стихотворении молодого Мандельштама «Теннис» спортсмен разыгрывает партию с девушкой-партнершей, «как аттический боец, в своего врага влюбленный». Теннисный мячик залетел, как видим, высоко, очень высоко.
Разительный перепад между космологическим, натурфилософским и, с другой стороны, культурно-вещным, культурно-материальным подходом к одному и тому же источнику впечатлений могут проиллюстрировать следующие две выдержки. Это, правда, не стихи, а проза, писавшаяся в конце 20-х – начале 30-х годов, но проза двух больших поэтов, сохраняющая все признаки их исходной, первоначальной поэтической образности. Короче, я цитирую два путешествия по Армении – Белого и Мандельштама.
Андрей Белый: «Легендою жизни потухших вулканов меняются местности в лапы седых бронтозавров <…> в спины драконов, едва отливающих розовым персиком, в золотокарие шерсти, в гранаты хребта позвоночного, в головы, вставшие из аметистовой тени… За Караклисом исчезла в ландшафте земля, ставши светом и воздухом <…> там оттенки текучи, как статуи в русле неизменного очерка гор, их сквозных переливов, слагающих светопись кряжей Памбака…». [176]
О. Мандельштам: «Мне удалось наблюдать служение облаков Арарату. Тут было нисходящее и восходящее движение сливок, когда они вливаются в стакан румяного чаю и расходятся в нем кучевыми клубнями… Село Аштарак повисло на журчаньи воды, как на проволочном каркасе. Каменные корзинки его садов – отличнейший бенефисный подарок для колоратурного сопрано». [177]
Оба эти эпизода написаны тогда, когда спор символизма с акмеизмом давно отошел в прошлое, но они, как было сказано, являют рецидив юности каждого из поэтов. Мы же, глядя из нашего времени, равно удалены, кажется, от обоих способов восприятия. Нам уже представляется совершенно недостоверным – и как физика, и как «метафизика» – золотой, парчевый, аметистовый космос Андрея Белого, увитый мифическими телами воздушных драконов, осыпанный драгоценными каменьями, испещренный печатками гностических эмблем. Но испарилась и освободительная свежесть мандельштамовского (как сказано в одной из его программных статей) «сознательного окружения человека утварью». [178] Нарочитая сподручность того, что «утварью» никогда не станет и не должно становиться: превращение облаков в сливки, селения – в корзинку из цветочного магазина (или еще оттуда же: землянки отшельников – дачные погреба; «гробницы, разбросанные на манер цветника»; севанский климат – «золотая валюта коньяку в потайном шкапчике горного солнца» [179]) – не раскрепощает уже, а смутно тревожит: чересчур удобный и профанный, мир этот понуждает вспомнить не об античных ларах и пенатах, мечтавшихся Мандельштаму, а – воспользуюсь выражением Андрея Битова – о «пляжной цивилизации».
Взгляд на природу и вообще на большой мир как на подобие, грубо говоря, склада – салона или амбара, все равно – бытовых вещей не есть только акмеистическая отметина Мандельштама. Ту же вещно-бытовую фамильяризацию природы мы находим у самых разных поэтов в постсимволистские 10-е годы. Для Пастернака в это время «Размокшей каменной баранкой / В воде Венеция плыла», и если мы обратимся к небесно-природному хозяйству раннего Есенина, то и там обнаружим изрядно утвари, которая более плавно сопрягается с зорями и водами потому, что она – не городская. Смешать природное с миром искусственных вещей, уподобить одно другому, уравнять то и другое в достоинстве, приписать природе не просто сотворенность, а некую рукотворность (когда даже самый Бог созидает не творческим словом «Да будет», а возится у станка: «Кому ничто не мелко, / Кто погружен в отделку / Кленового листа / И с дней Экклезиаста / Не покидал поста / За теской алебастра») – такова была поэтическая философия времени. Очень интересно проследить за мотивом окна в поэзии Анненского, Мандельштама, Пастернака. Оно – как бы грань между заоконным космосом небес и деревьев и интерьером комнаты, но грань не разделяющая, а роднящая. Рисунок ветвей на небе, как на эмали или листе бумаги, вставленном в раму (у Анненского и Мандельштама), или, наоборот, сад, вбегающий в окно или трюмо, чтобы поселиться среди комнатной толчеи вещей и вывести их наружу (Пастернак), – вот композиция таких натюрмортов с элементами пейзажа. Можно было идти обратным путем – как водилось у футуристов: не фамильяризация природы, а романтизация вещи, повышение ее в чине. Молодой Маяковский выводит за собой в космическую даль мир вывесок и витрин: «Я сразу смазал карту будня, / Плеснувши краски из стакана, / Я угадал на блюде студня / Косые скулы океана, / На чешуе жестяной рыбы / Прочел я зовы новых губ…» Казалось бы, это совершеннейший контраст тому, когда поэт отождествляет себя с веткой после дождя и, держа руку-ветку на весу, убеждается: «У капель тяжесть запонок» (Б. Пастернак). Тем не менее тенденция едина: природа как генератор лирических тем утрачивает свою неприкосновенность и чистоту. Можно ли здесь увидеть отражение орудийного и потребительского отношения к природе, свойственного все той же полосе цивилизации? Такой вывод, идеологически не лишенный смысла, погрешал бы эстетически, зачеркивая непреходящее в завоеваниях новой поэзии. Поэтому я предпочитаю поставить тут многоточие…