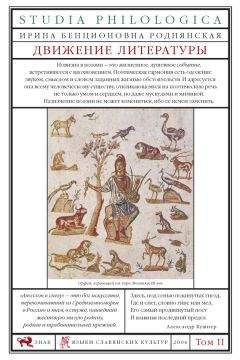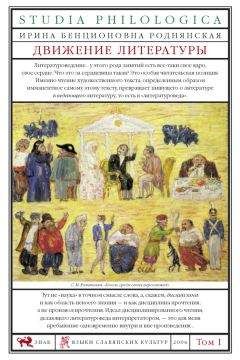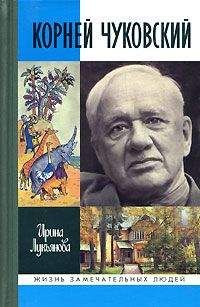Движение литературы. Том I - Роднянская Ирина
Это типичный натюрморт в лирике, с «настроением» (милое детство!), с признаками нового зрения (обилие ближних планов, благодаря которым предметы не просто детально обозначены, а именно лирически облюбованы). Но легко заметить, что вещность всех поименованных здесь вещей не одинаково интенсивна. Диалектные и специфически «деревенские» слова слегка как бы развеществляют то, что ими названо. «Шелуха сырых яиц» гораздо, так сказать, материальней, чем драчены, для приготовления которых были только что разбиты эти яйца, а «тараканы» вещественней «попелиц». В общем, эта яичная скорлупа – единственно подлинная новая вещь в наполненном вещами маленьком этюде Есенина; пройдя через стилистически нейтральное слово, она удивляет именно как предмет, до сих пор не присутствовавший в поэзии, не исключая поэзии с бытовой и фольклорной окраской.
Еще одно, столь же трудноуследимое, но потребующееся в дальнейшем разграничение – между лирическим, с одной стороны, и изобразительно-обстановочным, с другой, – образом предмета. Моменты изобразительности, обстановочности неизбежны в лирике – искусстве, пусть по традиционной классификации «выразительном», однако связанном с ситуацией, с конкретностью места и времени, в отличие от музыки или нефигуративного орнамента. «Она сидела на полу / И груду писем разбирала», – это эпизод из тютчевского лирического романа («денисьевского цикла»), и он требует предметного упора, элементов сценической обстановки, – которые и даны: в виде груды писем. Но чтобы предмет зажил собственно лирической жизнью, он должен быть втянут в сеть субъективнодушевных ассоциаций или символических соответствий. Он должен свободно входить в состав всех метафорических сопряжений – и как реалия, и как идеальное подобие, ее поясняющее, как то, с чем реалия сравнивается; должен без труда обосновываться на обеих «половинах» иносказания, тропа.
Таким образом, «мир вещей» в принципе не составляет специфического начала в лирике, и в границах целых эпох или стилей он может лежать на периферии ее возможностей. В определенном смысле мощная обстановочность Державина, добросовестные реалии Некрасова или даже летуче-скупой абрис у Фета: «Рояль был весь раскрыт…» – явления одного порядка. Вещи здесь по преимуществу типичны, а не символичны; они «работают» по принципу метонимии (конкретная частность свидетельствует о целом, например, о некоем укладе с его мирочувствием), а не по принципу метафоры (ассоциативный мостик от одной сферы восприятий к другой). «Шекснинска стерлядь» Державина или «крест да пуговица» в некрасовской песне про Калистратушку, как говорится, не равны себе: за ними пласты жизни, бытовой и духовной, – но взятые не в специально лирическом модусе.
Притом для классической лирики очень важна отобранность, отборность вещей. Я имею в виду не только ту общепонятную сторону дела, что вещи, иерархически заниженные, из нижних слоев быта, с трудом проникали в высокую лирику, – окруженные извиняющим их комическим ореолом («фламандской школы пестрый сор») или стилистически отмеченные в качестве дерзких прозаизмов. Я имею в виду другое: лирика XIX века не была заставлена и захламлена, в отношении мира вещей в ней действовала своеобразная бритва Оккама – столько предметности, сколько нужно, чтобы жизненно укоренить лирический импульс и дать ему разгон, – но не больше. Рядом с раскрытым роялем Фета немыслим столик, на котором дымится чашка шоколада, или трюмо, в котором отражается певица, – это было бы просто кощунством. То же очевидно, если обратиться к классической медитативной лирике, где отправной точкой для раздумья служит памятный или чем-либо поучительный предмет, вещь: «Цветок засохший, безуханный, / Забытый в книге вижу я…» (А. С. Пушкин); «На серебряные шпоры / Я в раздумии гляжу…» (М. Ю. Лермонтов). Эта вещь оказывается только берегом, от которого отталкивается, чтобы уплыть, ладья поэтического воображения; всякая ее конкретизация и окруженность другими вещами ощущались бы здесь как избыточные.
Итак, до сравнительно недавнего времени мир вещей проникал в лирику только сквозь ряд строгих фильтров: стилистической уместности, типичности, причастности к заданной ситуации (о мире природы, тоже предметном в своем роде, я не говорю – в прошлом веке он уже был насыщен давней лирической жизнью, взаимопроникновением «я» и «не-я»: «Все во мне и я во всем»). И вдруг – в отношении вещей – все в поэзии переменилось. Фильтры внезапно лопнули, и вещественность цивилизованного мира хлынула в лирику. Лирика встала перед проблемой освоения вещи не периферией своих средств, а самым своим существом, ядром своей впечатлительности и выразительности. О том, что это так, мне кажется, свидетельствуют все направления новой поэзии, начиная даже с символизма. Если на минуту отвлечься от социально-идеологической стороны их споров, манифестов и рекомендаций, то едва ли не всякий раз в остатке получится вопрос о смысле и способе присутствия вещи в поэзии. В первой четверти двадцатого века спорили о предметном образе (и о предметности слова) так же горячо, как в первой четверти девятнадцатого – о языке и стиле. Уже девиз «от реального к реальнейшему» постулировал в лирике мир реалий, хотя и собирался сделать его мостом к миру сущностей. Постсимволистские течения борются с символизмом за самодовление реалий (акмеизм), за расширение их круга, выход на улицу (футуризм, фактически уже упрежденный экспрессионистскими опытами Брюсова, Блока, Белого); затем идут имажинисты с их поисками «органического образа», конструктивисты с их «локальным приемом», «обэриуты» с их предпочтением мужественной конкретности материальных предметов всяческим «переживаниям», – куда ни кинь, лирическое слово воспринимается как опредмечивающее, по-своему сталкивающее и стягивающее предметы.
Конечно, показательны в первую очередь не теории и эксперименты, а полноценная поэтическая практика художников-творцов. Между ними в интересующем нас ракурсе окажется больше сходства, чем различий. По воспоминанию Пастернака, Маяковский как-то сказал ему: «Вы любите молнию в небе, а я – в электрическом утюге». [174] Но это только летучий афоризм, характеризующий программность Маяковского, а не наклонности Пастернака. Последний любил, мог любить молнию в электрическом утюге не меньше, чем Маяковский, хотя и по-другому: не как техническое достижение, а как знак домоводства, пленительной женской хлопотливости. Дело не в мотиве, а в самом лирическом приятии вещи. Пресловутый «утюг» не мог быть для Пастернака, также как и для Маяковского, низким, а главное – не мог быть немым предметом.
Но прежде чем обратиться к опыту самих стихов, естественно будет задаться вопросом, откуда же взялась эта экспансия вещей в лирику, начавшаяся после первой русской революции, в эпоху «модерна», и к рубежу 1917 года достигшая решительной силы? Ближайшее (хотя и слишком общее, поскольку речь идет о самобытных путях искусства) объяснение находим в вещном пафосе позднекапиталистической цивилизации, которая стала выбрасывать на рынок множество новых «комфортных» вещей, культивировать потребности в них и прославлять эти потребности как симптомы роста и расширения человеческой индивидуальности. Сейчас, когда новые вещи, как на ровно движущейся ленте конвейера, съезжают к нам в жизнь и оттуда – беспрепятственно – в искусство (так что, например, умиленное манипулирование автоматом с газированной водой, как предметом в некотором роде метафизическим, сразу дало почувствовать, в известном стихотворении Б. Ахмадулиной, позу и натяжку), – короче говоря, в наше привычно-затоваренное время трудно уже представить всю претенциозность и весь психологический эффект того натиска, который когда-то испытали рафинированные пласты духовной культуры со стороны нового мира вещей. На рубеже веков немецкий экономист и философ В. Зомбарт, энтузиаст наступательного капиталистического этоса, писал с интонацией торжества: «… поколению литераторов, философов и эстетиков, бедных кошельком, но богатых сердцем, богатых sentiments, но страшно бедных sensibilité, несвойственно было из принципа или по недостатку средств настоящее понимание материального благополучия, украшения внешней жизни. Даже Гёте, который принадлежал к более светской эпохе, который не чужд был наслаждений и у которого не было недостатка во вкусе к роскоши и блеску, даже Гёте жил в доме, убранство которого нашему теперешнему вкусу представляется жалким и нищенским… Даже художники не знали волшебного очарования обстановки из красивых вещей, они ничего не понимали в искусстве жить в красоте: они были аскетами или пуристами. Они или одевались как назореи в верблюжий волос и питались акридами и диким медом, или вели жизнь гимназического учителя или чиновника». Теперь же, по словам Зомбарта, «все жизнепонимание претерпевает перемены. Оно становится из преимущественно литературного преимущественно художественным, из абстрактно-идеалистического чувственным. Пробуждается вкус к видимому здешнего мира, красивой форме даже внешних предметов для радости жизни и ее наслаждений… В настоящее время впереди всех по части эстетической обстановки идут магазины, торгующие парфюмерными товарами и галстуками, магазины белья, салоны для завивки дам, салоны для стрижки и бритья, фотографические мастерские и т. д. Деловая и торговая жизнь пропитывается красотой». [175] Этот довольно-таки агрессивный вызов просачивался сквозь все поры жизни и не мог не породить ответной лирической реакции, той или иной. От пассажей Зомбарта легко перекинуть мостик к миру эгофутуристических поэз Северянина, к некоторым раннеакмеистическим «радостям жизни». Но даже для того, чтобы быть отвергнутым, этот новый «дизайн жизни» должен был быть воспринят внутрь лирической чувствительности и как-то переварен ею, в форме ли мелькающих бликов «таинственной пошлости», или как видение «бунта вещей», возвращающихся к растительно-животному, живому миру, который послужил для них сырьем, или еще как-нибудь.