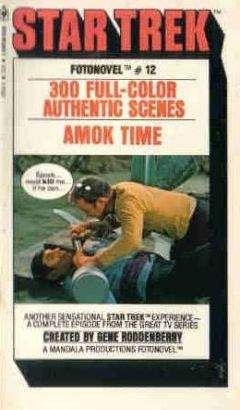Арам Асоян - Данте в русской культуре
«Италия владеет мечтами поэта. Даже эпиграфы почти все итальянские»[663], – писал Н. Гумилёв, познакомившись с новой книгой Иванова. Эти слова можно было сказать и по поводу первого сборника стихов, где при свете «Кормчих звезд» автор всматривался в «топографию запредельного»[664] и сквозь «магический кристалл» своей лирики пробовал разглядеть «реальнейшее инобытие»[665]. Недаром он всегда говорил о поэзии как о «вожде в разум истины… как о пути в область анагогического (анагогического в толковании Данте и Средних веков: docet quid speres anagogia)»[666] и не раз повторял стихи «Божественной комедии», которые он в качестве эпиграфа предпослал одной из ранних поэм «Сфинкс»:
О voi ch' avete Pintelletti sani,
mirale la dottrina che s'asconde sotto
' 1 velame de li versi strani.
Infern., IX, 61–62[667]
Стихи этой поэмы, опубликованной в первой книге лирики, были действительно странные, а точнее, эзотерические. Античный миф о Сфинксе подвергался в терцинах Иванова модернистскому толкованию, субъективной эзотерической интерпретации. Эдип, утверждал поэт, разрешивший, как ему казалось, загадку сфинкса, то есть загадку всего творения словом «человек», и объявивший человека мерою всех вещей, заклял природу наложением на нее своей печати и вознесением над нею своего величия; иначе, заклял ее своим самообожествлением. В результате сфинкс вошел в самого Эдипа, в его подсознание как «связанный и тоскующий хаос». Взгляд сфинкса, его неразрешенный вечный вопрос Эдип узнает в глазах Иокасты. Не затем ли, спрашивал Иванов, и ослепил он себя, чтобы не видеть этого взгляда?
По Иванову, Иокаста – все индивидуально и космически женственное; в ней вся тварь стенает и томится, ожидая откровения человека, который ее освободит; это Душа мира. Но человек, Эдип, не освобождает, он своей матери «не познал». Таково, заключает автор, отношение человеческого духа, оторвавшегося от своих онтологических корней, к Душе мира: в зеркальном затворе уединенного сознания, строящего мир по своему собственному закону, человек не постиг бытийственной сущности Души мира. «Ни один бог и ни один смертный не снял с меня покрывала», – вспоминал Иванов надпись на подножии кумира Саисской богини.
По его мнению, человек, не постигший Души мира, иначе – божественного всеединства, лишен духовного зрения. «Единственно верный путь, – полагал Иванов, – есть путь духа. Поэтому благотворно искать ориентацию в вещах духовных. В поисках ее нам естественно устремляться к высшему солнцу и к вечным звездам, понимаемым в смысле анагогическом, устремляться к Любви божественной, которая „впервые привела в действие все эти чудесные вещи“, как говорит величайший поэт христианства, – к „Любви, которая движет солнце и другие звезды“[668].
Эти позднейшие размышления Вяч. Иванова дают дополнительный материал для понимания эпиграфа и основного текста уже цитировавшегося стихотворения „Дух“. В целом же „дантовские“ эпиграфы предполагали создание таких предпосылок, которые бы побуждали воспринимать текст в свете поэтических символов, возникших на почве религиозно-исторического сознания средневековой культуры. Это был один из способов, с помощью которого стихам придавался эзотерический смысл, но он почти всегда применялся во взаимосвязи с другими, проецирующими текст на определенный культурно-идеологический фон. Так уже было в самом начале творческой деятельности Вяч. Иванова.
Задолго до публикации первой книги стихов он написал поэму „Миры возможного“, где изобразил „страшный сон“, навеянный болезненным чувством ответственности за трагическую судьбу молодого ученого, неожиданно убившего человека, а потом покончившего с собой. Чувство вины родилось у Иванова из выношенного убеждения, что каждый, как говорил Достоевский, за все и за всех виноват. Это убеждение утверждалось в сознании поэта представлением, свойственным, впрочем, как Достоевскому, так и Данте, что „все человечество – это один человек“[669]. „Кто в романе похож… на безответную жертву? – писал Иванов о „Преступлении и наказании“. – Одна только Соня? Нет, и отец ее, и мачеха, и Лизавета. И не только они, а даже убитая старуха-процентщица и, наконец, сам убийца, который осужден или осудил себя на исполнение того, чего требует от него коллективная воля“[670].
Кошмарный сон в поэме „Миры возможного“ – это не только ее композиционная форма, но и – как в „Божественной комедии“ – развернутая метафора душевного состояния лирического героя. Именно в связи с этой функцией сновидения поэт избрал для эпиграфа неожиданные при первом чтении стихи „Чистилища“:
Е se pensassi come, al vostro guizzo
guizza dentro alio specchio vostra image,
cio che par duro ti parreble vizzo.
Ужасы, приснившиеся лирическому герою, обнажают тайные лабиринты его души, которая в открывшихся ей безднах находит свое собственное отражение. Герой потрясен, страдания и раскаяние становятся его искуплением. Поэма заканчивается стихами:
Я жаждал искупить мой грех сторицей!
И дух: „О плачь! Плачь в скорби безутешной,
Рыдай, и рви власы, и смой проклятья
С души, без грешных дел в возможном грешной!“[672].
Таким образом, как при нашем движении движется в зеркале наш образ, так в наших снах воплощается одно из наших осуществлений. В этой аналогии заключается смысл эпиграфа. Он, и не только он, напоминает в поэме Иванова о „Божественной комедии“. Дантовская печать угадывается в визионерском характере „Миров возможного“, бессказуемостных оборотах, в строгих терцинах стихотворения и, наконец, в образе путника, который, как Вергилий, ведет поэта к истинному прозрению:
„Скажи, мой вождь! Бежав земного плена
И странствий и страстей подъяв немало,
Искуплена ль душа от власти тлена?“
И дух в ответ: „Глянуть в сии зерцала
Ей надлежит, да упадут пред оком
Последние земные покрывала.
Последний будет ей тот взгляд уроком.
Воззри ж и ты; насытясь правды медом,
Будь напоен ее полынным соком!..“[673].
Кроме этих особенностей, общих для „Комедии“ и поэмы Вяч. Иванова, примечательны сцены запредельного мира, явившегося в „Мирах возможного“, словно по ассоциации с дантовским адом:
Но развивались явственней картины
Дальнейших мест, где жатву вечной Жницы
Еще застал для горшей я кручины…
Я зрел их сонм, обвалом заключенный
В ущелий безысходные темницы.
Как рой теней, скитаньям обреченный,
Вдоль шатких стен искал он слепо двери –
И гроб обрел под глыбой отсеченной.
Спасенных горсть – не жалость о потере,
Гнал дикий страх под скал нависших своды.
Ползущих ниц давил обвал в пещере.
Других застигнул быстрый час невзгоды
На крутизнах, обглоданных обрывом;
Их бездна обняла, как остров – воды.
Как овцы, в стаде скручены пугливом,
Они стеклись; теснил бессильных сильный
На ломкий край толчком себялюбивым…[674]
„Ущелий безысходные темницы“, „гнал дикий страх“ и „рой теней, скитаньям обреченный“ – все это вольные или невольные отзвуки „Ада“, но, главное, пожалуй, и не в них, а в более непредсказуемых подробностях рассказа:
Увы, сколь многих жертв узнал я лица!
Эта реплика звучит почти по-дантовски. Она возвращает в юдоль вечных мучеников горечь и боль земной жизни; она, как у Данте, оживляет страну кромешного мрака волнением пришельца из иного мира. И хотя никто не покрывается смертным потом и не падает навзничь, сраженный чужим горем[675], но на мгновение нескончаемые муки, словно в „Божественной комедии“, перестают казаться безличными и озаряются драматизмом отдельной судьбы.
Наряду с этим еще не менее знаменательный штрих. Среди жертв „Вечной жницы“ есть прямые потомки Фаринаты. Он „ад с презреньем озирал“ (Ад, X, 36), а они:
Презрев со Смертью неотступной торги,
Неистовой тут предавались страсти,
По жизни правя тризну низких оргий[676].
Правда, в этой картине больше осуждения, нежели изумления, какое вызывает у Данте гордый последователь Эпикура, но занимательнее другое. Благодаря этому эпизоду запредельный мир Вяч. Иванова в подобие дантовскому аду наполняется яростью посюсторонней жизни и становится менее отвлеченным.
„Миры возможного“ вошли в сборник „Кормчие звезды“, где образованность автора обнаруживалась как „мудрейший экстракт культуры“[677]. Книга полна мифологических, исторических и литературных реминисценций. Вместе с эпиграфами они выполняли роль сигнальных светляков, способных озарять духовные интенции поэта светом „неизменных“, как звезды, старых истин. Старых, но, полагал Иванов, не стареющих. Вслед заАп. Григорьевым он любил повторять завещание Гёте: „Истина обретена давно и сочетала в одну духовную общину благородных“[678]. С этой гётевской мыслью связан „дантовский“ эпиграф, предваряющий первый в творчестве поэта сборник стихов: