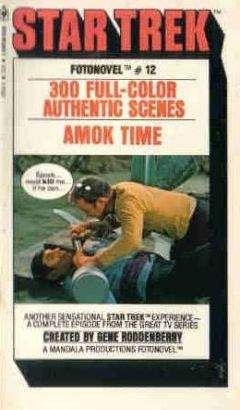Арам Асоян - Данте в русской культуре
Рассуждая о большом искусстве, Иванов был склонен считать, что в Средние века оно как раз и существовало благодаря тому, что «личность ощущала себя не иначе как в иерархии соборного соподчинения, обязанного отражать иерархическую гармонию мира божественного, но в эпоху Возрождения, соблазнившись индивидуализмом, писал Иванов, оторвалась от небесно-земного согласия, что и определило характер новой европейской культуры, в том числе и романа, вплоть до наших дней. В течение нескольких столетий он развивался, по словам поэта, как „референдум“ самоцельной личности и в то же время оставался подземной шахтой (катакомбой), где кипит работа рудокопов интимнейшей сферы духа, откуда постоянно высылаются на землю новые находки, новые дары сокровенных от внешнего мира недр…»[631].
Таким подземным художником, открывшим познание путей отъединенной самодовлеющей личности и путей личности, возымевшей переживание мировой мистической реальности, был в представлении Вяч. Иванова Достоевский. Под его пером, говорил поэт, роман явил тайну антиномического сочетания обреченности и вольного выбора в судьбах человека и стал трагедией духа. Дело в том, полагал Иванов, что путь веры и путь неверия, по Достоевскому, – два различных бытия, подчиненных каждое своему внутреннему закону; и при раз сделанном метафизическом выборе между ними поступать иначе в каком-либо отдельном случае невозможно и просто неосуществимо. Если, писал Иванов, первоначальный выбор совершился, то он уже неизменен, так как совершается он не в разумении и не в памяти, а в самом существовании человеческого «я», выбравшем для себя то или иное свойство. И только духовная смерть этого «я» может освободить от принадлежащего ему свойства: тогда человек теряет душу и забывает имя свое; он продолжает дышать, но ничего своего уже не желает, утонув в мировой или мирской соборной воле; в ней растворяется всецело и из нее мало-помалу опять как бы собирается, осаждается в новое воплощенное «я», гость и пришелец в своем старом доме, в дождавшемся прежнего хозяина прежнем теле[632]. Этот возродительный душевный процесс, на утверждении которого, замечал Иванов, зиждилась в древности чистая форма дионисовой религии и который составляет центральное содержание мистического нравоучения в христианстве, Достоевский умел, насколько это дано искусству, воплотить в образах внутреннего перерождения личности[633]. И здесь, уверял поэт, он мог опереться на собственный опыт. По мнению Иванова, Достоевский экстатически испытал отторжение от своего «я», когда стоял пред казнью на Семёновском плацу. В минуты ожидания смерти на эшафоте внутренняя личность упредила смерть и почувствовала себя живою и сосредоточенною в одном акте воли уже за ее вратами. Личность, по словам Иванова, была насильственно оторвана от феноменального и ощутила впервые существенность бытия под покровом видимости вещей, из которой сотканы ограды воплощенного духа[634].
«Чрез посвящение в таинство смерти, – писал поэт, – Достоевский был приведен, по-видимому, к познанию… общей тайны, как Дант чрез проникновение в заветную святыню любви. И как Данту чрез любовь открылась смерть, так Достоевскому – через смерть – любовь»[635]. Эти строки отсылают читателя к иносказательному смыслу «Vita nu ova» – духовному перерождению героя, вызванному его любовью к Беатриче. Прежний Данте должен умереть, чтобы духовно возродиться. Путь внутреннего очищения (через отторжение прежнего себя) приводит Данте к лицезрению вечного блаженства, его любовь перерастает в стремление к высшему благу и чувство нераздельной связи с сущностью мира:
Над сферою, что выше всех кружится,
Посланник сердца, вздох проходит мой:
То новая Разумность, что с тоской
Дала ему Любовь, в нем ввысь стремится…[636]
Идея единства любви и смерти, смерти и духовного обновления, характерная для философии автора «Vita nuova»[637] и как бы символизирующая для него сопереживание смерти и воскресения Христа в формах своей собственной жизни, была чрезвычайно дорога Иванову. «„Люби, зачинай, умирай“ – триединая заповедь Жизни, – писал он, – нарушение которой отмщается духовным омертвением. Ибо Любовь – Смерть, и начало – Смерть; и Смерть – Любовь, и Смерть – начало. „Не уставай зачинать, не переставай умирать“ – вот что требует от человека Любовь, которая и в микрокосмосе, как в Дантовом небе, „движет солнце и другие звезды“»[638]. Аналогия между духовным перерождением Данте и Достоевского, отмеченная поэтом, служила утверждению его кардинального мнения о миросозерцании и реализме художника. Реализм Достоевского, говорил Иванов, был его верою, которую он обрел, потеряв свою прежнюю душу[639].
Естественно, что речь шла о мистическом реализме, который предполагал «прозрение в сверхреальное действие, скрытое под зыбью внешних событий и единственно их осмысливающее»[640]. Исходя из такого понимания творчества Достоевского Иванов, как будто вслед за Данте, предлагавшим воспринимать «Комедию» в четырех смыслах, был склонен считать, что человеческая жизнь представлена в романах Достоевского в трех планах: внешне событийном, психологическом и метафизическом.
В первом смысл происходящего извлекается из паутинного сплетения событий, во втором – из цепи переживаний, в этих двух планах раскрывается вся лабиринтность жизни и вся зыбучесть характера; а в высшем – в завершительной простоте обнажается первопричина трагического существования человека: это царство верховной трагедии, где время как бы стоит, где встречаются для поединка Бог и дьявол, где полем битвы служит душа человека, и он сам решает суд для целого мира – быть ли ему, т. е. быть в Боге, или не быть, т. е. в небытии. Вся трагедия обоих низших планов, заключал Иванов, нужна Достоевскому для сообщения и выявления этой верховной, или глубинной, трагедии конечного самоопределения человека[641].
Судьба человека в ее последней инстанции была предметом и напряженной дантовской мысли. «Итак, сюжет всего произведения, – писал автор „Божественной комедии“, – если исходить единственно из буквального значения, – состояние душ после смерти как таковое, ибо на основе его и вокруг него развивается действие всего произведения. Если же рассматривать произведение с точки зрения аллегорического смысла – предметом его является человек, то, как – в зависимости от себя самого и своих поступков – он удостаивается справедливой награды или подвергается заслуженной каре»[642].
Между тем Иванов отмечал, что каждая ступень планов в произведениях Достоевского есть уже малая трагедия в себе самой, и если катастрофично целое, то и каждый узел тоже катастрофичен; мы должны, писал Иванов, исходить до конца весь Inferno, прежде чем достигнем отрады и света в трагическом очищении[643]. Говоря об этом, он был убежден в гуманистическом воздействии «жестокой» музы Достоевского, которая, по его словам, поднимая со дна души ужас и сострадание, приводит всегда к спасительному очищению. Какое-то неуловимое, растолковывал он, но осчастливливающее утверждение смысла и ценности, если не мира и Бога, то человека и его порыва, затепливается звездой в нашей отчего-то жертвенно отрешенной и тем уже облагороженной, что-то приявшей и в муках зачавшей, но уже этим оправданной душе. И так творчески сильно катарсическое облегчение и укрепление, какими Достоевский озаряет душу, прошедшую с ним через муки ада и мытарства чистилища, что мы все уже давно примирились с нашим суровым вожатаем и не ропщем более на трудный путь[644].
Память о «Божественной комедии» и здесь задавала образность и направление мысли Вяч. Иванова о Достоевском. Позднее свои статьи 1910-х годов «об этом человеке со светочем в руках» он включил в сокращенном и модернизированном виде в итоговую монографию о Достоевском «Свобода и трагическая жизнь»[645]. В одном из разделов книги, характеризуя религиозные взгляды писателя, Вяч. Иванов даст развернутое сопоставление Достоевского с Данте. Он напишет, что оба художника стремились обратить жизнь на земле из состояния несчастья и ничтожества к состоянию счастья; оба искали путь к этой цели, оба вглядывались в глубочайшие бездны зла, оба сопровождали грешную и ищущую спасения душу по трудным тропам ее восхождения, оба знали блаженство божественной гармонии; каждый хотел показать своему народу его историческое задание в свете христианского идеала[646].