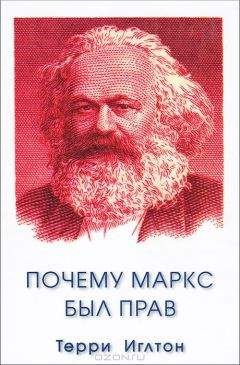Терри Иглтон - Теория литературы. Введение
«Работа разрушения» проявляется в поразительном исследовании Бартом рассказа Бальзака «Сарразин» – «S/Z» (1970). Литературное произведение больше не относится к устойчивым объектам или определённым структурам, и язык критики отказался от всех претензий на научную объективность. Самый интригующий текст для критики не тот, который может быть прочитан, но тот, что можно написать — текст, который поощряет критиков его препарировать, переносить в другие дискурсы, вести собственную полупроизвольную игру смыслов наперекор самому произведению. Читатель или критик меняет роль потребителя на роль производителя. Не то чтобы «всё позволено» в интерпретации: Барт осторожно замечает, что произведение не может значить всё что угодно; но литература в меньшей степени объект, которому критики должны подчиниться, скорее она – свободное пространство, в котором можно играть. «Переписываемый» текст, как правило, модернистский, не имеет ни определенного смысла, ни устойчивого означаемого, но при этом он неоднороден и рассеян, это неисчерпаемая сеть или галактика означающих, плавный узор кодов и фрагментов кодов, в которых критики могут протоптать тропинки для собственных странствий. Здесь нет начала и конца, нет последовательности, которая не могла бы быть отменена, нет иерархии текстовых «уровней», говорящих, что именно более или менее значимо. Все литературные тексты сотканы из других литературных текстов – не в том обыкновенном понимании, что они несут отпечатки чьего-то «влияния», но в более радикальном смысле: каждое слово, фраза или сегмент повторяют другие работы, которые предшествуют или окружают конкретное произведение. Не существует ничего такого, как литературная «оригинальность», «первичное» литературное произведение: вся литература «интертекстуальна». Таким образом, индивидуальная манера письма не имеет чётко определённых границ: она постоянно расщепляется на слова, сгруппированные вокруг неё, порождает сотни различных перспектив, которые убывают вплоть до точки исчезновения. Произведение не может закрыть эту трещину, отвергнуть свою заданность через апелляцию к автору: «смерть автора» стала девизом, который современные критики могут уверенно провозгласить[127]. В конце концов, биография автора является просто ещё одним текстом, который не нуждается в приписывании ему особой привилегии – этот текст также может быть деконструирован. Перед нами язык, который говорит внутри литературы, во всем её роящемся «полисемическом» множестве, – но не сам автор. Если существует место, где это бурлящее многообразие текста моментально фокусируется, то это не автор, а читатель.
Когда постструктуралисты говорят о «письме» или «текстуальности», обычно это специфическое ощущение от письма и текста, которое присутствует в их сознании. Движение от структурализма к постструктурализму является в некотором смысле, как выразил это сам Барт, движением от «произведения» к «тексту»[128]. Это переход от рассмотрения стихотворения или романа как замкнутой системы с точными смыслами, определяющими задачи критика по её дешифровке, к взгляду на неё как на нередуцируемую множественность, бесконечную игру означающих, которые никогда не могут быть полностью закреплены за единым центром, сущностью смысла. Это явно радикально меняет практику самой критики, что и иллюстрирует «S/Z». Метод Барта в этой книге состоит в разделении рассказа Бальзака многочисленными способами на определённое число единиц, или «лексий», и применении к ним пяти кодов: «проайретического» (повествовательного), «герменевтического», связанного с раскрытием в рассказе загадок, «культурного», исследующего запас социального знания, при помощи которого создано произведение, «семиотического», имеющего дело со скрытыми смыслами изображаемых людей, мест и предметов, и «символического» кода, составляющего схему сексуальных и психоаналитических отношений в тексте. Ничто из этого пока не выглядит расходящимся со структуралистской практикой. Но деление текста на единицы измерения является более или менее произвольным; эти пять кодов просто отобраны из неопределённого количества возможных вариантов, они не упорядочены иерархически, но применяются, иногда два или три раза, все вместе к одной и той же единице и воздерживаются от конечных выводов о произведении, приведения его к любому виду связного восприятия. Более того, они демонстрируют его рассеивание и фрагментарность. Текст, утверждает Барт, это в меньшей степени структура, это, скорее, открытый процесс «конструирования», и его создает именно критика. Новелла Бальзака кажется произведением реалистическим, не совсем поддающимся семиотическому насилию, которому Барт его подвергает: его критический разбор не воссоздает объект, но решительно переписывает и преобразовывает всё, что мы должны о нём знать. Посредством этого открывается, однако, аспект произведения, который до недавнего времени оставался незамеченным. «Сарразин» показан как «предельный» для литературного реализма текст, произведение, в котором господствующие установки изображены в качестве тайного источника тревоги: повествование вращается вокруг фрустрирующего акта наррации, кастрации, загадочного источника капиталистического богатства и глубокого смятения, являющегося следствием фиксированных сексуальных ролей. В качестве coup de grâcê[129] Барт может утверждать, что самое «содержание» новеллы относится к его собственному методу анализа: рассказ описывает кризис литературной репрезентации, сексуальных отношений и экономического обмена. Во всех этих случаях буржуазная идеология репрезентативного знака начинает заходить в тупик, и с этой точки зрения, через очевидно жёсткую интерпретацию и её виртуозное исполнение, повествование Бальзака может быть прочитано как распространяющееся за пределы своего конкретного исторического момента начала XIX в. прямо к тому модернистскому периоду, в рамках которого пишет Барт.
Действительно, структуралистскую и постструктуралистскую критику породило в первую очередь именно литературное движение модернизма. Некоторые из поздних работ Барта и Деррида сами являются модернистскими литературными текстами, экспериментальными, загадочными, богатыми и многозначными. Для постструктурализма не существует чёткого разделения на «критику» и «творчество»: обе эти манеры относятся к письму как таковому. Структурализм появился, когда язык стал предметом навязчивой увлеченности интеллектуалов, а это было в свою очередь вызвано глубоким кризисом языка, ощущавшимся в Западной Европе на рубеже веков. Как можно писать в индустриальном обществе, где дискурс выродился в простой инструмент науки, коммерции, рекламы и бюрократии? И в любом случае для какой публики можно писать, если читатели пресыщены «массовой», скудной на смыслы культурой, действующей как успокоительное средство? Может ли литературное произведение быть одновременно произведением искусства и предметом потребления на свободном рынке? Можем ли мы далее разделять самонадеянный рационализм или эмпиризм среднего класса середины XIX в., утверждающий, что язык пристёгнут к миру? Как возможно письмо без каркаса из коллективных убеждений, общих для автора и публики, и как в идеологической суматохе двадцатого столетия такой общий каркас может быть заново изобретён?
Вопросы, подобные этим, уходят корнями в реальные исторические условия современного творчества, которое столь наглядно, столь убедительно вывело на передний план проблемы языка. Формалистская, футуристская и структуралистская увлечённость остранением и обновлением слов, возвращением отчуждённому языку богатств, которых тот был лишен, всё это было различными способами дать ответ на одну и ту же историческую дилемму. Но также возможно предложить сам язык в качестве альтернативы освобождения от мучительных социальных проблем – и, смиренно или победоносно, отказаться от традиционного представления о том, что кто-то пишет про что-то и для кого-то, и сделать сам язык объектом анализа. В своём мастерском раннем эссе «Нулевая степень письма» (1953) Барт составляет схему исторического развития, в которой письмо для французских символистов XIX в. становится «интранзитивным» актом: не письмо ради конкретной цели на определённую тему, как в эпоху «классической» литературы, но письмо как собственное основание и предмет собственной страсти. Если объекты и события реального мира воспринимаются как скучные и отчуждённые, если история кажется потерявшей направление и впавшей в хаос, всегда возможно заключить это «в скобки», «исключить референт» и вместо этого начать исследовать сами слова. Письмо обращается само на себя в глубоком акте нарциссизма, и в то же время оно потревожено и омрачено социальным чувством вины за свою собственную беспомощность. Неизбежно являющееся соучастником тех, кто низвёл его значение до ненужного товара, оно, тем не менее, проявляет щепетильность по отношению к собственной свободе от влияния социальных смыслов, настаивая на чистоте молчания, как это было с символистами, или на поисках строгой нейтральности, «нулевой степени письма», которая надеется быть чистой и незапятнанной, но в реальности, как в случае Хемингуэя, окажется таким же литературным стилем, как остальные. Нет сомнения, что «вина», о которой говорит Барт, – это вина самого института Литературы, института, который, как он замечает, способствует дифференциации языков и классов. «Литературно» писать в современном обществе – значит неизбежно участвовать в заговоре такого разделения.