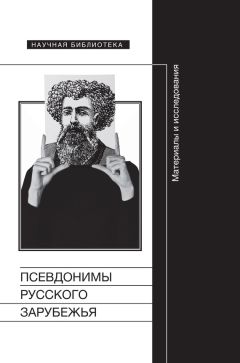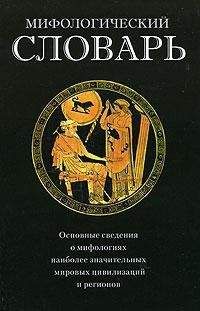Людмила Зубова - Языки современной поэзии
Обратим внимание на структуру фразеологизма птица-феникс: лексической единицей является парное сочетание, объединяющее родовое и видовое название, что Пригов и пародирует конструкцией голубь-птица. Инверсия подчеркивает избыточность родового наименования, так как именно второй элемент словосочетания является уточняющим.
Возможно, в последней строфе смешиваются два эпизода из известных текстов культуры: библейский сюжет о жене Лота, которая была наказана за то, что обернулась на горящий Содом, и рассказ о мести Ольги древлянам из «Повести временных лет»: чтобы сжечь древлян, княгиня Ольга собрала с каждой избы по голубю и воробью, подожгла птиц и отпустила лететь обратно.
Одушевление предметов, восходящее к мифологическому сознанию, имеет разную мотивацию в разных художественных системах. В постмодернистском тексте Пригова это конструкт, составленный из концептов, образованных в результате метафорического функционирования слов, теряющих прямой смысл и поэтому способных вступать в новые соединения.
Конечно, у Пригова есть огромное количество текстов, демонстрирующих превращение в концепт слова из цитаты. Некоторые примеры уже приводились. Теперь обратим внимание на поведение заимствованной метафоры в тексте Пригова:
Как я пакостный могуч —
Тараканов стаи туч
Я гоняю неустанно
Что дивятся тараканы
Неустанству моему:
Не противно ль самому? —
Конечно, противно
А что поделаешь.
Здесь очевидна пародийная трансформация строк Ветер, ветер! Ты могуч, / Ты гоняешь стаи туч из «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях» Пушкина[320]. Но если в источнике множество было обозначено только словом стаи, то у Пригова количественным показателем становится сочетание стаи туч. В языке слово туча и само по себе может обозначать множество. При этом пушкинская метафора ‘тучи как птицы’ совсем обессмысливается, так как тараканы по небу не летают.
И сам Пушкин изображается Приговым как концепт, то есть как продукт мифологизированного массового сознания, сформированного не чтением произведений Пушкина, а идеологией, в которой все ценности заранее утверждены и приписываются культовому объекту вопреки реальности[321]:
Внимательно коль приглядеться сегодня
Увидишь, что Пушкин, который певец
Пожалуй скорее, что бог плодородья
И стад охранитель, и народа отец
Во всех деревнях, уголках бы ничтожных
Я бюсты везде бы поставил его
А вот бы стихи я его уничтожил —
Ведь образ они принижают его.
Поэтому, когда Пригов и сам себя, точнее созданный им образ Дмитрия Александровича Пригова, представляет гротесковым по-этом-пророком, концептом-симулякром, он провозглашает, что Пригов — это и Пушкин сегодня, и Лермонтов, и кто угодно из пантеона культурных и идеологических символов:
Я Пушкин Родину люблю
И Лермонтов ее люблю
А Пригов — я люблю их вместе
Хоть Лермонтова-то не очень.
Пригов не просто провозглашает себя Пушкиным сегодня, но и вмешивается в его тексты (как и в тексты других поэтов): комментирует, пересказывает хрестоматийные стихи своими словами (следуя постулату о приоритете содержания над формой), меняет слова местами, сочиняет буриме на пушкинские рифмы[324], внедряет в текст слова безумный, безумно, безумец, безумство:
Пора, мой друг, время уже.
Сердце покоя просит.
/Сердце — не камень, не растение же!/
И все уносятся уносятся
Частицы бытия,
Жизни, значит, частицы.
И нету в жизни счастья, Боря!
Но есть много-много разного другого —
покой, воля…
И давно завидная представляется мне вещь,
Событие, что ли.
Давно бы пора бежать куда-нибудь!
Но не в Израиль же!
Друзья мои, прекрасен, великолепен,
неподражаем / это что-то
неземное! / — наш союз,
Он как душа — не в религиозном, а в
этом, как его, смысле — нераз-
делим и вечен,
Неколебим, свободен / а это что-то незем-
ное! / и беспечен,
Срастался он — это тоже что-то незем-
ное! — под сенью дружных муз.
И куда бы нас отчизна ни послала,
Мы с честью слово выполним ее,
Все те же мы — простые ребята, нам
целый мир чужбина,
Отечество нам — Царское Село, под
Ленинградом
Кто он такой, что матом кроет
Все чем мы жили и крутя
Пустые словеса, завоет —
Что улыбнется и дитя
Фразеологьи обветшалой
Антикоммунистической
Когда ж народ весь зашумит
То его возглас запоздалый
Гвоздем последним застучит
Гробовым
Его же собственным
Блеснет безумен луч денницы
Безумный заиграет день
А я — безумныя гробницы
Сойду в безумную же сень
И вот безумного поэта
Безумная поглотит Лета.
Придешь безумная ли ты
Безумна дева красоты
Слезу безумную над урной
Пролить, безумный, он любил
Меня, безумный посвятил
Рассвет безумный жизни бурной
Безумный друг, безумный друг
Приди безумный, я — супруг.
Последний пример представляет собой обновление пародии: в романе «Евгений Онегин» монолог Ленского — пародия на канон романтической элегии. Современный читатель вряд ли может без литературоведческих комментариев почувствовать пушкинскую иронию, и Пригов именно эту иронию модернизирует, подробно объясняя свои намерения в авторском «Предуведомлении»:
Естественно, что за спиной переписчика, как и за моей, стоит его время, которое прочитывает исторический документ с точки зрения собственной «заинтересованности» или же «невменяемости», т. е. как текст непрозрачный даже в отрывках, знаемых наизусть. Так же и упомянутый пушкинский Онегин прочитан с точки зрения победившей в русской литературной традиции — Лермонтовской (при том, что все клялись и до сих пор клянутся именно именем Пушкина). Замена всех прилагательных на безумный и неземной, помимо того, что дико романтизирует текст, резко сужает его информационное поле, однако же усугубляет мантрическо-заклинательную суггестию, что в наше время безумного расширения средств и сфер информации вычитывается, прочитывается как основная и первичная суть поэзии.
(Пригов, 1998: [2])Языковой критике у Пригова подвергается и фонетический образ слова. Цикл «Изучение сокращения гласных», состоящий из пяти текстов, начинается с передразнивания чешского языка, в котором сохранились слоговые плавные согласные:
Лёт мртвего птаха
Над чрною житью
Он мртвел летаха
Над Влтавой жидкой
И над Пршикопом
Я зрел ту птаха
Как пел он пркрасно
Псмертно летаха.
И далее автор испытывает границы возможного в русском языке, фонетически уподобляя русские слова чешским и, естественно, нарушая эти границы:
Вот я птцу ли гльжу ли льтящу
Иль про чрвя рзмышляю плзуща
Или звря ли бгуща в чаще
Я змечаю ли дльны уши
Странно, но на все есть слово
Здесь ли в Прге, иль в Мскве ли
рдимой
Даже в Лндоне — тоже слово
На естство оно первдимо.
Слова, сокращенные таким неестественным образом, гротескно отражают вполне естественное явление: редукцию слова в разговорной речи, а затем и в языке — как следствие не столько экономии усилий, сколько восприятия слова целиком, а не по морфемам, утрачивающим самостоятельную значимость.