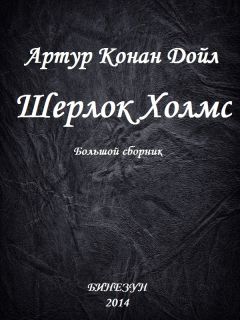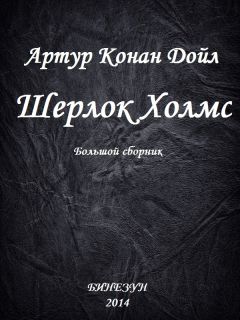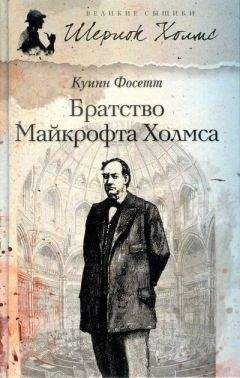Леонид Карасев - Гоголь в тексте
В этом одновременно и русская высокая мечта, и огромная беда: небреженье земным, обыденным, коли оно не вечно, и с ним все равно придется расстаться ради жизни иной – неважно, небесной или земной, но непременно бессмертной.
Гоголь раздваивается, не соглашается, как это видно из его сочинений, с заведенным порядком вещей. С одной стороны, желудок-храм, «поэзия» чревоугодия, когда «сверх одного обеда наворотишь другой» («Игроки»), с другой – отрицание идущих за этим последствий или их подсознательное переосмысление. Ведь если царица из «Пропавшей грамоты», питалась «золотыми галушками», то, согласно логике натуры, ими же и облегчалась: золото на входе, золото и на выходе. По большому же счету в Гоголе видно несогласие с миропорядком вообще: или превратить ночь в день (чтобы ночью «видно было, как днем»), или – полное неприятие мира: «Внутри рвет меня, все немило мне: ни земля, ни небо…» («Наброски плана…»). Отсюда – внутреннее несогласие с установленным для человека законом телесного существования, что в сюжетном, то есть метафорическом, превращенном виде сказалось на гоголевских попытках корректировки или переиначивания финалов и вообще реабилитации низа. И вместе с тем – понимание того, что закон как наказание за первородный грех установлен Богом, и, следовательно, подчиниться ему необходимо. По сути, это все тот же вопрос, который раздваивал внимательно прочитавшего гоголевские сочинения Мережковского – как можно по-христиански жить здесь, на земле, если главная жизнь – там: «Жить в Боге значит уже жить вне самого тела…»[84].
Гоголь сам ощущал в себе непреодолимую душевную и телесную раздвоенность и не раз говорил об этом: отсюда идет и темный «мистический материализм» его сочинений, и вместе с тем истовая проповедь христианского отношения к жизни и смерти, его «вопль»: «Будьте не мертвые, а живые души. Нет другой двери, кроме указанной Иисусом Христом, и всяк, прелазай иначе, есть тать и разбойник»[85].
Так или иначе, можно сказать, что начало того раздвоения, метания между земным и небесным, которым была отмечена духовно-интеллектуальная жизнь России века девятнадцатого и которое достигло своей высшей точки в фантастической «теории и практике» большевистской революции, угадывается уже в Гоголе.
Ведьма и кошка
(Детский опыт Гоголя)[86]
Фрагмент из «Вия», где Хома Брут встречается с ведьмой, а затем убивает ее, стоит привести хотя бы частично, чтобы затем было легче сопоставлять его детали с «Майской ночью» и гоголевским рассказом об одном из его детских проступков.
Среди ночи ведьма входит к философу и начинает его «ловить». Хома хотел было бежать, но «старуха стала в дверях и вперила в него сверкающие глаза и снова начала подходить к нему». Хома чувствует, что не может двигаться и говорить. «Он слышал только, как билось его сердце; он видел, как старуха подошла к нему, сложила ему руки, нагнула его голову, вскочила с быстротой кошки к нему на спину, ударила метлой по боку и он, подпрыгивая, как верховой конь, понес ее на плечах своих». Затем Хома летит над озером или морем, видит под собой дно, прозрачную воду, прибрежную осоку и выплывающую из-за нее русалку. «“Что это?” – думал философ Хома Брут, глядя вниз, несясь во всю прыть. Он чувствовал бесовски-сладкое чувство, он чувствовал какое-то пронзающее, какое-то томительно-страшное наслаждение». Освободившись от ведьмы, Хома сам вспрыгнул ей на спину, «схватил лежавшее на дороге полено и начал им со всех сил колотить старуху. Дикие вопли издала она; сначала были они сердиты и угрожающи, потом становились слабее, приятнее, чище, и потом уже тихо, едва зазвенели, как тонкие серебряные колокольчики, и заронялись ему в душу: и невольно мелькнула в голове мысль: точно ли это старуха? “Ох, не могу больше!” – произнесла она в изнеможении и упала на землю. (…) Перед ним лежала красавица с растрепанною рос кошною косой, с длинными, как стрелы, ресницами. Бесчувственно отбросила она на обе стороны белые нагие руки и стонала, возведя кверху очи, полные слез. Затрепетал, как древесный лист, Хома: жалость и какое-то странное волнение и робость, неведомые ему самому, овладели им; он пустился бежать во весь дух».
Теперь приведем фрагмент из «Майской ночи», где найдется немало сходных подробностей. «Настала ночь: ушел сотник с молодою женою в опочивальню; заперлась и белая панночка в своей светлице. Горько сделалось ей; стала плакать. Глядит: страшная черная кошка крадется к ней: шерсть горит, и железные когти стучат по полу. В испуге вскочила она на лавку: кошка за нею. Перепрыгнула на лежанку: кошка и туда, и вдруг бросилась к ней на шею и душит ее. С криком оторвавши от себя, кинула на пол; опять крадется страшная кошка. Тоска ее взяла. На стене висела отцовская сабля. Схватила ее и бряк по полу – лапа с железными когтями отскочила, и кошка с визгом пропала в темном углу. Целый день не выходила из светлицы своей молодая жена; на третий день вышла с перевязанною рукой. Угадала бедная панночка, что мачеха ее ведьма и что она перерубила ей руку».
Далее следует рассказ о том, как отец выгнал панночку из дома и как она бросилась в воду. С той поры она стала главной над всеми утопленницами. «В одну ночь увидела она мачеху свою возле пруда, напала на нее и с криком утащила в воду. Но ведьма и тут нашлась: оборотилась под водою в одну из утопленниц и через то ушла от плети из зеленого тростника, которою хотели ее бить утопленницы». Затем в главе «Утопленница» Гоголь дает картину глубокого прозрачного пруда, где водят свой хоровод погибшие девушки. Молодой козак помогает панночке найти ведьму-убийцу, меж ними происходит поединок, который заканчивается победой панночки.
Не ставя перед собой задачи провести полный сопоставительный анализ фрагментов из «Вия» и «Майской ночи», я отмечу лишь некоторые особенности, которые указывают на их несомненное внутреннее родство.
Итак, общая ситуация схватки. Ее этапы. Одиночество. Это обязательное условие. Герой должен остаться один среди тишины и темноты. Хома – в хлеву, сотникова дочка – в светлице.
Нападение. Первой нападает ведьма, действуя в обоих случаях примерно одним и тем же образом – медленно подкрадываясь и «ловя» свою жертву.
Страх. Страшно и Хоме, и панночке. Стук. В «Вие» философ слышит посреди ночной тишины стук своего сердца. В «Майской ночи» по полу стучат железные когти кошки.
Ведьма-кошка. Персонаж вполне традиционный; в данном случае для нас важны гоголевские детали, которые, как выясняются, указывают на наличие общего для обеих повестей источника. В «Майской ночи» кошка описана весьма выразительно. В «Вие» на Хому нападает старуха, однако повадка и черты ее вполне кошачьи: она крадется к Хоме, глаза ее горят «необыкновенным блеском». Наконец, на спину Хоме она, как пишет Гоголь, вспрыгивает с «быстротою кошки».
Битье. Ведьма-кошка нападает на человека. Герои, защищаясь, бьют ее. Хома – поленом, панночка – отцовой саблей[87].
Путь к победе. В обоих случаях победа достается герою не сразу. Да и когда он побеждает, характер победы оказывается весьма условным: сотникова дочка одолевает ведьму, лишь став утопленницей, а Хома, убив ведьму, вскоре и сам помирает. Что касается рисунка самой схватки, то он одинаков: сначала наступает ведьма-кошка, затем верх берет герой.
Утопленница-русалка. В «Майской ночи» утопленница – главная героиня. В «Вие» утопленницы также присутствует: Хома летит над озером, где плавает «созданная из блеска и трепета» русалка.
* * *От утопленницы-русалки – один шаг до темы воды. Но прежде чем говорить об этом, нужно обратиться к одному свидетельству, которое может объединить сказанное ранее, «Майскую ночь» – с «Вием». Дело в том, что сами по себе «ведьма-кошка» или боязнь темноты не несут в себе ничего индивидуального: подобными темами полнится и фольклор и литература.
Индивидуальность, персона проявляют себя тогда, когда в них сказывается история конкретной человеческой жизни. В этом отношении интересно сопоставить взятые нами эпизоды из «Вия» и «Майской ночи» с примечательным событием из раннего гоголевского детства. Вот как передает этот случай – со слов самого Гоголя – А. О. Смирнова.
«Было мне пять лет. Я сидел в Васильевке. Отец и мать ушли. Оставалась со мною одна старуха няня, да и она куда-то отлучилась. Спускались сумерки. Я прижался к уголку дивана и среди полной тишины прислушивался к стуку длинного маятника старинных стенных часов. В ушах шумело, что-то надвигалось и уходило куда– то. Верите ли, – мне уже тогда казалось, что стук маятника был стуком времени, уходящего в вечность. Вдруг слабое мяуканье кошки нарушило тяготивший меня покой.