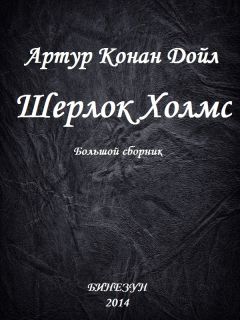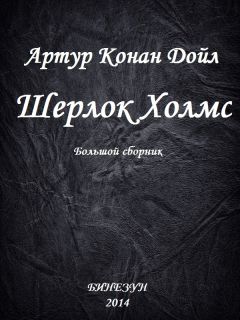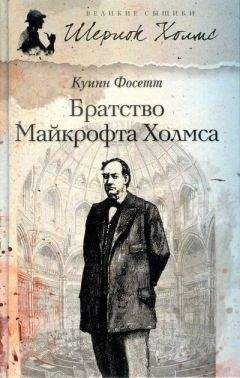Леонид Карасев - Гоголь в тексте
Итак, триада «сюжета поглощения» рождается из того, что принято именовать «естественным порядком вещей». Она – в природе человека, в тех его телесных корнях, от которых он отказаться или избавиться не способен. Да и вообще, можно ли усомниться или воспротивиться этому самому «натуральному» или «естественному» порядку вещей? Ведь в этот порядок входит и самая главная триада («рождение – жизнь – смерть»), в ходе развертывания которой «проигрываются» все возможные варианты процессов «улучшения» и «ухудшения», включая и рассматриваемый нами пищеварительный сюжет.
Однако в том-то все и дело, что для Гоголя, который самую тьму хотел превратить в свет (чтобы ночью «все было видно, как днем»)[74], «естественный» порядок вещей таким уж естественным не казался. Это можно понять, учитывая то, что Гоголь и к собственному устройству относился по-особенному: «Он, – как пишет П. В. Анненков, – имел даже особенный взгляд на свой организм и весьма серьезно говорил, что устроен совсем иначе, чем другие люди»[75]. А от представлений подобного рода один шаг до выводов более широкого свойства, пересматривающих саму проблему соотношения жизни и смерти. И хотя Гоголь напрямую об этом не говорил, сам материал его сочинений (прежде всего тот, которым мы занимались на протяжении этих заметок) указывает на попытку и надежду как-то «исправить», переделать человека. Как скажет потом Достоевский, выражая, хотя и другими словами, все ту же надежду, человек когда-нибудь изменится физически, то есть «переродится по законам природы окончательно в другую натуру»[76].
Триада «сюжета поглощения» с ее гоголевским «спасительным» финалом – как вариант проекта борьбы со смертью: не более того, но и не менее, поскольку именно в еде, в факте ее прохождения через человеческий организм заключен тот смысл, который собирает людей вместе за столом на свадьбах и похоронах. «Мертвые души» тоже задуманы как триада; и дело тут не только в оглядке на Данте, но и в том, что для Гоголя сам принцип трехчастного раскрытия смысла был весьма органичен. По замыслу автора, в первом томе персонажи должны быть представлены в их низшем, едва ли не полуживотном состоянии (отсюда вереница помещиков «котов», «медведей», «пауков», «кур», «щенков» во главе с «обезьяной» Чичиковым)[77]. А. Белый усматривал в том порядке, в каком Чичиков посещает помещиков, определенную закономерность, а именно то, что каждый следующий персонаж «мертвее» предыдущего[78]. В отличие от А. Белого по-другому видит композиционную ситуацию первого тома поэмы Ю. Манн: с его точки зрения, позиция А. Белого «уязвима», поскольку последовательное рассмотрение человеческих качеств каждого из персонажей, или того «вреда», который они наносят обществу, показывает, что Коробочка или Собакевич ничуть не мертвее Манилова[79].
В нашем случае, впрочем, динамика и логика омертвления (если она вообще присутствует в списке посещаемых Чичиковым помещиков) не так важна, как сам принцип представления вполне живых людей в качестве «мертвых душ», то есть карикатур на самих себя. Хотя, если следовать логике того, что мы назвали «сюжетом поглощения», последовательность, отмеченная А. Белым, получает поддержку, но, разумеется, из тех областей, о которых он даже и не задумывался. Естественный ход вещей превращает съеденную, проглоченную – живую (в смысле «свежую», «съедобную») красивую, яркую пищу – по ходу ее движения внутри тела в малопривлекательную массу вплоть до того момента, когда в ней не остается ничего хорошего, и единственной задачей организма является ее отторжение.
Во втором томе – по сравнению с первым – (я говорю о композиционном и идейном замысле Гоголя, а не о пищеварительных подробностях) положение дел должно было несколько исправиться: несгибаемый напор Чичикова, его практицизм и цинизм начнут перемежаться сомнениями, терзаниями, раскаяньями, появятся также и «новые» люди вроде Костанжогло или откупщика Муразова. Что же касается третьего тома поэмы, то здесь и сам Чичиков и все другие персонажи должны были стать, наконец-то, настоящими, живыми людьми – из «мертвого» состояния «воскреснуть» для новой подлинной жизни.
* * *Проблема, как мы можем теперь заметить, была не только в неисполнимости задуманного плана, который, как обычно выражаются литературоведы, противоречил «природе таланта Гоголя» (чаще всего имеется в виду его сатирический дар). Проблема была в той самой последовательности и логике реализации смысла, о которой шла речь все это время. Гоголевская триада, исправно (хотя иногда и с корректировками в финале) срабатывавшая в большинстве его сочинений, для поэмы «Мертвые души» оказалась непригодной. Все оказалось перевернутым с ног на голову, как в собственном гоголевском телесном самоощущении («Когда о его болезни стал его расспрашивать Языков, Гоголь объяснил, что она происходит от особенного устройства его головы, и от того, что его желудок поставлен вверх ногами»)[80].
Логика гоголевского образного мышления, как мы видели, составлена из триады, в первой части которой празднует свой праздник зрение-поглощение. Второй части соответствует некая рефлексия по поводу части первой – своего рода смысловая или сюжетная неразбериха, сумбур, дробления, сгущения, преувеличения и пр. Третья же, финальная, – это итог процесса деградации – то, что самым кратким образом можно назвать словами: «Черт его знает, что такое!»[81].
Но ведь для исполнения замысла «Мертвых душ» была потребна совсем другая, даже противоположная направленность движения мысли. Как можно изобразить возвышенное и светлое на том этапе исполнения художественного помысла, где только и получается, что говорить о самом низком и мертвом! На уровне «теории» Гоголь утверждает, что «нельзя устремить общество или даже все поколенье к прекрасному, пока не покажешь всю глубину его настоящей мерзости» («Выбранные места из переписки с друзьями»), [82] а именно этим – лучшим, возвышенным – он и собирался заняться во втором и третьем томах своей поэмы. Однако те «исходы, средства и пути», которые Гоголь прозревал, не стали, не смогли стать чем-то реальным и по-настоящему убедительным. Только изображение настоящего, то есть фактически, по гоголевскому плану, «мерзости», давалось ему как убеждающая читателя реальность.
Но можно ли однако обозначить содержание первого тома поэмы таким грубым словом? Так ли уж мерзок Манилов и его жена или режущий «правду-матку» Собакевич? Гоголь изобразил жизнь, какой ее увидел при ярком свете солнца, увидел все, что ее составляет, включая сюда и «незамеченных насекомых». В этом смысле первый том, хотя и посвящен он «мертвым душам», скорее, светлая книга, дарящая читателю радость и смех, побуждающие его перечитывать поэму вновь и вновь, что со словом «мерзость» никак не вяжется. Можно сказать, что здесь «теория» разошлась с практикой, верх взял несравненный гоголевский смех, который изменил самый статус изображаемой реальности, сделав ее объектом эстетическим и потому привлекательным.
Что такое «мерзость», как не характеристика человека в его наличном несовершенстве, включая сюда его страсти и физиологию? Выходило, что «улучшить» человека нельзя без того, чтобы заставить его стать другим по самой своей телесной природе. А это то, что самому человеку сделать невозможно. В этой неспособности изменить человеческую натуру, невозможности сделать так, чтобы человеческое тело работало как-то по-другому (а значит, в онтологической перспективе, избежало бы и смерти), скрыта одна из причин, которые заставили Гоголя остановиться и не заканчивать поэму. Здесь же есть и то, что отчасти объясняет гоголевский отказ от жизни: он отказался от приема пищи, то есть фактически решил проблему «сюжета поглощения» для себя лично, перестав пропускать еду через собственное тело. «Естественный» порядок вещей, как я уже говорил, Гоголю таковым не казался, как, впрочем, и Толстому, который называет задачу избавления от смерти делом «самым главным», тем, чего на свете быть не должно[83]. И дело, собственно, Гоголем и Толстым не ограничивается; в списке «сочувствующих» окажутся Достоевский и Федоров, Циолковский и Вернадский, Чижевский и Платонов.
В этом одновременно и русская высокая мечта, и огромная беда: небреженье земным, обыденным, коли оно не вечно, и с ним все равно придется расстаться ради жизни иной – неважно, небесной или земной, но непременно бессмертной.
Гоголь раздваивается, не соглашается, как это видно из его сочинений, с заведенным порядком вещей. С одной стороны, желудок-храм, «поэзия» чревоугодия, когда «сверх одного обеда наворотишь другой» («Игроки»), с другой – отрицание идущих за этим последствий или их подсознательное переосмысление. Ведь если царица из «Пропавшей грамоты», питалась «золотыми галушками», то, согласно логике натуры, ими же и облегчалась: золото на входе, золото и на выходе. По большому же счету в Гоголе видно несогласие с миропорядком вообще: или превратить ночь в день (чтобы ночью «видно было, как днем»), или – полное неприятие мира: «Внутри рвет меня, все немило мне: ни земля, ни небо…» («Наброски плана…»). Отсюда – внутреннее несогласие с установленным для человека законом телесного существования, что в сюжетном, то есть метафорическом, превращенном виде сказалось на гоголевских попытках корректировки или переиначивания финалов и вообще реабилитации низа. И вместе с тем – понимание того, что закон как наказание за первородный грех установлен Богом, и, следовательно, подчиниться ему необходимо. По сути, это все тот же вопрос, который раздваивал внимательно прочитавшего гоголевские сочинения Мережковского – как можно по-христиански жить здесь, на земле, если главная жизнь – там: «Жить в Боге значит уже жить вне самого тела…»[84].