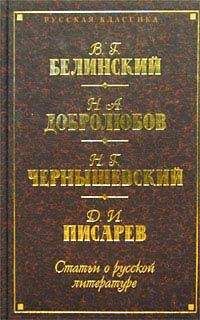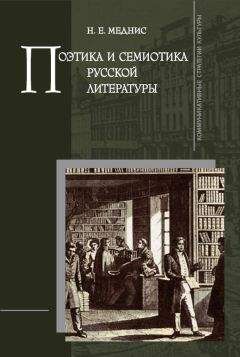Сергей Бочаров - Филологические сюжеты
Но от образа может оторваться и само лицо. Анализ такого лица, оторвавшегося от лика, дал в своих трудах П. А. Флоренский, и недаром он вспоминал при этом Гоголя (вообще анализ лица как особой реальности привлекает внимание возродившейся философской антропологии XX века, из русских мыслителей особенно Флоренского и В. В. Розанова[263]):
«Разве не со всяким случалось, что лицо собеседника, только что уводившее вглубь личности и раскрывавшее пред ним сокровенную жизнь её, вдруг подёргивалось какою—то онтологической пеленой и, словно оторванное от своей сущности, предстояло нам как внешняя вещь? И разве не со всяким случалось, что взор, проникавший в бесконечность встречного взора, вдруг упирался во влажную выпуклость глазного яблока и тупо скользил по коже, рассматривая поры лица? Тогда целостная и единственная в своей полноте личность не казалась ли нам плохо связанным пучком отдельных признаков? При таком затмении собственное имя, сохраняя неприкосновенность своей лингвистической материи, получает иную точку внутреннего упора и, утратив свою собственность, становится нарицательным».
Примером к этому анализу Флоренский и вспоминает личины гоголевских героев, «имена которых неизбежно напрашиваются в нарицательные и, следовательно, являют не столько именуемых, как приёмы мышления именующего, а значит его приёмами – самого его только».[264]
В этом анализе лица у Флоренского, как и в его различении лика, лица и личины в «Иконостасе», мы, в самом деле, можем искать философского комментария к гоголевским деформациям. Это лицо «как внешняя вещь» – не является ли оно тем смысловым фоном, вне которого не разгадывается загадка повести «Нос»? Не к этому ли описанному Флоренским «затмению» адресует нас всеобщее затмение, озадачивающее в повести? У Флоренского особая, можно сказать, философская чувствительность к лицу как средоточному «месту» той всепроникающей борьбы духовной силы и косного вещества, которая для него проходит не только сквозь человеческую, но и космическую жизнь. И он умел описывать эту борьбу как драматическое действие, совершающееся на этом материальном пространстве человеческого лица, передавая грубую физическую конкретность этого действия, – она так ощутима в цитированном фрагменте (чего стоит один этот взгляд, упершийся во влажную выпуклую поверхность глазного яблока), или же в таком описании: «всё то в лице, что не есть самое лицо, оттесняется здесь забившей ключом и пробившейся чрез толщу вещественной коры энергиею образа Божия».[265] Вспомним, сколько той же самой «коры» у Гоголя в его размышлениях о человеке и художественных его описаниях: «Мы ежеминутно должны бояться, чтобы кора, нас облекающая, не окрепла и не обратилась наконец в такую толщу, сквозь которую им (живым силам и впечатлениям. – С. Б.) в самом деле никак нельзя будет пробиться». Флоренский исследовал тот феномен отщепления оболочки человеческого существа от его ядра, «внешнего» человека от «внутреннего», который первым в русской литературе и мысли открыл и изобразил нам Гоголь. «Явление личности отщепляется от существенного её ядра и, отслоившись, делается скорлупою».[266]
Здесь кстати будет вернуться к загадке повести «Нос». В поминавшейся уже статье «Загадка „Носа“ и тайна лица» мы предположили, что разгадать её можно только с помощью лица, то есть расширив наш взгляд от части до целого и подставив на место носа как мнимого предмета и мнимой темы – лицо как реальный предмет и реальнейшую тему творчества Гоголя. Раздвоение носа в сюжете своим абсолютным абсурдом отсылает к лицу, ибо это в сущность лица и входит та двойственность совмещения физических и духовных характеристик, та смысловая омонимия, какой совершенно лишён, конечно, «нос», и это именно лицо таит в себе возможность того раздвоения, расщепления, анализ которого дал Флоренский. Между тем в сюжете повести эту возможность абсурдно реализует не призванный к этому нос. «„Лицо“ – слово иерархическое»;[267] и в странной повести носу приписана вся эта иерархия смыслов «лица» – от объекта до субъекта, от чего—то чисто физического, в пределе – тупой материальной вещи («Но нос был как деревянный и падал на стол с таким странным звуком, как будто бы пробка»), до суверенной личности, притом социально значительной личности.
«Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет» (Мф. 12; 25) – кажется, эта универсальная истина даже к повести «Нос» имеет отношение. Мы вновь обращаемся к гоголевским статьям Иннокентия Анненского, представившего картину того, как царство образа человеческого разделилось само в себе у Гоголя. Анненский замечает о двух слитых жизнью людях в каждом человеке: «один – осязательный», «другой – загадочный, тайный (…) сумеречная, неделимая, несообщаемая сущность каждого из нас. Но другой – это и есть именно то, что нас животворит и без чего весь мир, право, казался бы иногда лишь дьявольской насмешкой». Так вот, из этих двоих Гоголь оторвал первого, осязательного, от второго, сумеречного, оставив второго в тени, развил «типическую телесность», так что «первый, осязательный, отвечал теперь за обоих».[268]
Вновь проникновение критика—поэта даёт нам более верный ключ, чем иные исследования. Воспользуемся образом Анненского и скажем, что нос отвечает в повести за лицо и за тех «обоих», «слитых жизнью», которые ведь в человеческом образе объединяются и сливаются ближе и прежде всего в лице. В повести Гоголя нос отвечает за всё лицо человеческое, вмещающее и «нос», и «душу». Но отсюда и получается – как безумное следствие – раздвоение носа и соответственно – невозможного действия повести.
Но этот наглядный абсурд о чём—то свидетельствует; он свидетельствует о какой—то ошибке, каком—то «затмении», породившем это мнимое происшествие, а тем самым и о некоей запредельной этому мнимому миру истине. Он свидетельствует той гоголевской логикой, по которой «самые ошибки уже подают идею о том, как избежать их, бесхарактерное подает мысль о характерном, мелкое и плоское вызывают в противоположность дерзкое и необыкновенное, углубление вниз подает идею о возвышении вверх и наоборот» (VIII, 72). Так и гипертрофия носа, осмелимся предположить, «подаёт идею» о лице и, далее, о том внутреннем противоречии образа человеческого, какое являет собою лицо, о том в лице, чем оно не только обращено во внешний мир (эмблемой этой высунутости вовне и является нос), но и о том в лице, что уводит внутрь и вглубь лица, во внутренний план его, в направлении, так сказать, обратном гипертрофии носа. Если можно представить фантастику «Носа» как результат предельно одностороннего понимания человека как всецело внешнего, как бы вывернутого наружу, если «затмением», породившим невозможный сюжет, является это тотальное овнешне—ние внутреннего, то по той самой логике, которую выразительно описал сам Гоголь (а в недавней работе немецкая исследовательница X. Шрайер определила эту вывернутую логику гоголевского комического изображения как негативную антропологию Гоголя[269]), – не должна ли такая история «вызвать в противоположность» некое представление об ином плане существования человека и ином полюсе его существа?
О том, что гоголевская шутка, как назвал её Пушкин, печатая в «Современнике», и в самом деле подаёт об этом идею и необычным образом поворачивает наш взор «зрачками в душу», об этом сохранилось замечательное читательское свидетельство из гоголевской эпохи, пока ещё совершенно не принятое во внимание в гоголевской литературе, – отклик А. М. Бухарева (архимандрита Феодора), собеседника Гоголя в конце 40–х годов:
«Ваш даже „Нос“ напомнил мне, как я, позабыв в иную пору, что такое жизнь моя и чем я должен в жизни заниматься, точно иногда хлопочу, суечусь, беспокою других, а на деле оказывается, что ищу не больше, как своего носа, и, ощупав его наконец у себя, успокоиваюсь, как будто какое великое сокровище нашел… Пресмешная, право, эта шутка ваша! Берёмся, напр., исправлять других, примериваем к этому делу тот или другой ключ, а ключ этот ближе, пожалуй, нашего носа к нам, в истинном и уже готовом для нас раскрытии тайны нашего же „я“. Подобная мысль будто сама собою приходит мне при чтении вашего „Носа“».[270]
Эти последние слова особенно замечательны. Так просто, «сама собою», приходит эта углублённая мысль, до которой спустя полтора столетия всё ещё не добрались интерпретации Гоголя. И самый ход углубления мысли и впечатления так просто, можно сказать, простодушно описан: пресмешная шутка изображает нам заполняющую нашу жизнь пустую и внешнюю деятельность и обращает нас от неё к тому, что «ближе нашего носа к нам», к «единому на потребу». Так естественно происходит этот переход от смешного происшествия ко внутренней задаче человека и «тайне нашего же „я“», и абсурдная головоломная история вдруг приобретает в этом простодушно—проницательном пересказе простые черты почти что евангельской притчи!