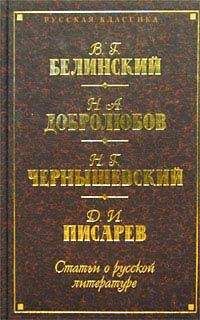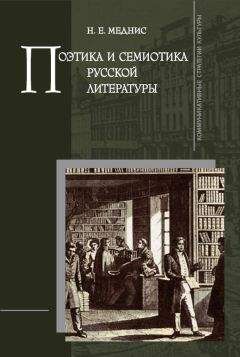Сергей Бочаров - Филологические сюжеты
Наконец, предельный случай – отсутствие лица на месте, где ему полагается быть, дыра на месте лица, как в знаменитом тоже описании табакерки Петровича, «с портретом какого—то генерала, какого именно, неизвестно, потому что место, где находилось лицо, было проткнуто пальцем и потом заклеено четвероуголь—ным лоскуточком бумажки». Это изображение глубинно—страшное, в глубине своего комизма страшное, – потому что такая изощрённая выдумка – это не только покушение какого—то пальца на святыню лица человеческого (хотя бы и только в виде портрета), но это художественное покушение на неё писателя.
В самом деле, в чём же источник этих деформаций? Герои Гоголя любят ссылаться на дурное зеркало, в котором «рожа выходит косяком», – это Подколёсин, но и сам рассказчик говорит о типичных зеркалах, показывающих «вместо лица какую—то лепёшку». Но в конце концов автор решительно говорит героям: на зеркало неча пенять, таково ваше внутреннее лицо. Деформация лица предстаёт как немотивированное фундаментальное свойство гоголевского мира, в равной степени происходящее как от объективного состояния этого мира и гоголевского человека, так и от субъективного авторского взгляда на них: и взгляд, и мир, в их уникальной взаимообусловленности, составляют источник такого необычайного и вызывающего изображения человека.
Итак, оскорбление человеческого лица – действием, словом или глубже всего – изображением – составляет одну из острых и труднообъяснимых странностей мира Гоголя. В ранних произведениях оно мотивировано действием фантастической отрицательной силы, «чорта», а далее предстаёт как немотивированное общее свойство изображённого мира; наконец, у позднего Гоголя этот способ обращения с лицом обретает новую функцию. Он делается в руках писателя—проповедника сознательным методом воспитания закосневшего человека. Поздний Гоголь уже начинает прямо от автора, от себя, лирически, адресовать и предъявлять как улику этот образ лица своим персонажам, а затем вообще современному человеку и человечеству. Тем же способом оскорбления лица, как будто заимствованным из своего же образного мира, он хочет теперь лечить и спасать человека; зло поругания лица человеческого должно теперь прямо служить добру и спасению. Наместо скверных гостиничных и трактирных зеркал, крививших образ его персонажам, он теперь прямо ставит перед ними собственное чистое зеркало своего творчества, и оно, увы, показывает ту же кривую рожу. Гоголь словно занимает у своих героев их язык, когда в «Выбранных местах из переписки с друзьями» советует «русскому помещику»: «Мужика не бей. Съездить его в рожу ещё не большое искусство… Но умей пронять его хорошенько словом» – и показывает, как это сделать: «Ах ты, невымытое рыло!» Возмутившийся Белинский с полным основанием вспомнил гоголевских героев как источник такого способа выражения и воспитания человека: «. да у какого Ноздрёва, какого Собакевича подслушали Вы его…»[259] Наконец, вполне лирически Гоголь преподносит человечеству как спасение оплеуху: «О, как нам бывает нужна публичная, данная в виду всех, оплеуха!» С. Т. Аксаков сообщал Гоголю о реакции М. П. Погодина: «Иисус Христос учит нас, получив в ланиту, подставлять со смирением другую; но где же он учит давать оплеухи? Желал бы я знать, как бы вы умудрились отвечать ему»,[260] – прибавлял Аксаков.
Отвечать, и правда, было не просто. Это столкновение гоголевской оплеухи с евангельской ланитой было чувствительным возражением, потому что и в самом деле, вольно или невольно, образцом, но как бы перевёрнутым, для гоголевской оплеухи была евангельская ланита. Гоголь, для которого, как мы видим, лицо человеческое было притягательным, даже, может быть, и болезненно притягательным центром художественного внимания, должен был с повышенным напряжением переживать эту заповедь и роль, отведённую в ней лицу, всю невыносимую телесную конкретность, которая здесь понадобилась для того, чтобы передать масштаб духовного подвига, этого «высшего любомудрия», как назвал подвиг подставленной ланиты Иоанн Златоуст.[261] Этот мотив унижения лица не единственный в Евангелии – реально его претерпевает сам Христос, которого бьют по щекам и плюют ему в лицо. Рискнём заметить здесь, сознавая, может быть, и неуместность такого сближения, но всё же – именно эти мотивы и эти действия довольно часто в ходу в мире гоголевских героев, да и сам писатель испытывает такие позывы по отношению к лицам своих соотечественников, особенно в первые месяцы после отъезда из России в 1836 году, в письмах Погодину: «Но на Руси есть такая изрядная коллекция гадких рож, что невтерпёж мне пришлось глядеть на них. Даже теперь плевать хочется, когда об них вспомню»; «Люди, рождённые для оплеухи…» Жуковскому он желает не встречаться «с теми физиогномиями, на которые нужно плевать…» Эти непосредственные и живые реакции ещё далеки от будущей оплеухи «Выбранных мест», хотя и на пути к ней. Оплеуха «Выбранных мест» – это уже целая идея, странно соприкасающаяся с евангельской ланитой. Собственно, Гоголь ждёт от современного человека именно подвига подставленной ланиты, когда призывает его выставить свою физиогномию под публичную оплеуху. Тем не менее возражение Погодина было Гоголю не в бровь, а в глаз, потому что права подвергать такому испытанию лицо ближнего, чужое лицо, евангельская заповедь не дает. Надо сказать, что и самая стилистическая несовместимость ланиты и оплеухи заключала в себе ядовитое возражение и имела отношение к сути дела. Гоголь принял возражение, обративши в связи с катастрофой «Выбранных мест» на себя самого и хлестаковщину, и зеркало, и оплеуху:
«Это я сказал где—то в письме, хотя и не знал ещё тогда, что получу сам эту публичную оплеуху. Моя книга есть точная мне оплеуха». Вышло так, что он подставил ланиту под свою же оплеуху, уподобившись собственной героине, которая сама себя высекла.
Конечно, сделанные наблюдения – это не полный очерк темы лица у Гоголя; но это резкая тенденция, острая доминанта. Какую же роль играет подобным образом показанное лицо во всей картине человека у Гоголя? Как и положено лицу, оно играет роль заглавную и центральную – оттого и исполнен этот перекошенный образ такого высокого напряжения. Ведь, в самом деле, во всех примерах этих разве нам не дано почувствовать каким—то вывернутым, обратным способом совершенно особой, единственной ценности этого места, с которым происходят все эти вопиющие вещи у Гоголя, как места человеческого достоинства? Гоголь писал об опозоренной святыне «званья и места» – но центральной опозоренной святыней в его мире является лицо.
Гоголевская картина человека очень подробна физически; плоть человеческая, её элементы и члены, и способы изображения этой плоти – неравновесно много значат в этой картине. Но в этой картине важно, что всякая плоть в человеке ведёт к лицу; всегда важно соотношение и соразмерение изображаемой части тела с возглавляющими тело головой и лицом. К примеру, «кулак, величиною с чиновничью голову», какой грабитель приставил «к самому рту» Акакия Акакиевича, заключает в себе довольно сложный эффект: это двойной эффект соразмерения и размеров, и качеств – физического орудия силы и грабежа с «хрупким орудием чиновничьего интеллекта».[262] Тем самым этот кулак не только приставлен к чиновничьему лицу, но, так сказать, попирает это тщедушное лицо в самом себе. Физический член как бы помнит о лице, даже будучи в иерархии телесного состава от него удалён, и через эти телесные опосредования отсылает неявно к лицу. Этот «кулак, величиною с чиновничью голову», – это такой квант гоголевской картины мира, посредством которого производится излучение смысла, почти недоступное для рационального истолкования, но реально нам сообщающее немалую информацию; и от нашей способности «читать» такие кванты зависит наше понимание Гоголя.
Но если в одном направлении всякая плоть в человеке ведёт к лицу, то в обратном направлении она смешивается, как бы по смежности, с миром вещей. Вот ещё гоголевский квант, на сей раз эротический: «Да ничего не видно, господа. И распознать нельзя, что такое белеет, женщина или подушка», – это женихи подсматривают в щёлку за туалетом невесты. Человеческая телесность, оторвавшаяся от образа как внутренней формы и задачи для человека, оторвавшаяся тем самым от лица как средоточия, центра, «представителя» образа в человеке, – эта телесность, распадаясь на части и члены, теряя форму, словно бы устремляется в противоположную сторону от лица – к смешению и отождествлению с бездушной вещественностью.
Но от образа может оторваться и само лицо. Анализ такого лица, оторвавшегося от лика, дал в своих трудах П. А. Флоренский, и недаром он вспоминал при этом Гоголя (вообще анализ лица как особой реальности привлекает внимание возродившейся философской антропологии XX века, из русских мыслителей особенно Флоренского и В. В. Розанова[263]):