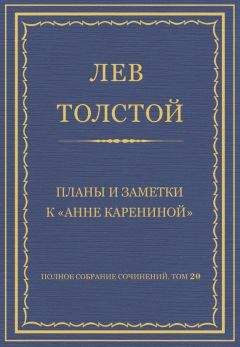Василий Розанов - О писательстве и писателях. Собрание сочинений [4]
В эту форму Некрасов влил чрезвычайно много своего. Он как бы посыпал ее пшеничным зерном (деревенские его темы), а вместе дал суровый и сатирический закал горожанина, резкий очерк души, которую формировали злейшие ветры каменных улиц. Некрасовская поэзия — синтез нежности в ее крайнем выражении («Баюшки баю», «Рыцарь на час»), с насмешливостью и даже грубостью тоже крайне выразившейся («Подражание лермонтовской колыбельной песне», «Юбиляры и триумфаторы», «Герои времени»). Точно замерзающий человек: внутри — тепло, поэзия, грезы; снаружи — ледяные сосульки, окоченелый и недвижный вид.
Были ли у него общечеловеческие темы? Да, хотя и в форме столь личной, «некрасовской», что их общечеловечность не была даже замечена.
Великое чувство! у каждых дверей,
В какой стороне ни заедем
Мы слышим, как дети зовут матерей,
Далеких, но рвущихся к детям.
Великое чувство! Его до конца
Мы живо в душе сохраняем,
Мы любим сестру, и жену, и отца,
Но в муках мы мать вспоминаем.
Все стихотворение — слабо и бледно, и представляет неискусное предисловие к двум последним строчкам. Но в них прорвалась такая буря настоящего чувства, испытанного и лично поэтом, а вместе и всемирно-истинного, что ради них все стихотворение входит необходимейшим нравственным звеном в русскую литературу. Взять из нее эти две строчки значит вдруг обеднить ее смысл. Есть также упрек, что Некрасов не пел любви, «которую поют все поэты». Между тем часть пятой главы «Коробейников», от стиха:
Хорошо было детинушке
Сыпать ласковы слова
Да трудненько Катеринушке
Парня ждать до Покрова
и до стиха:
Думы девичьи, заветные,
Где вас все-то угадать?
Легче камни самоцветные
На дне моря сосчитать.
Уж овечка опушается
Чуя близость холодов,
Катя пуще разгорается…
Вот и праздничек Покров!
возвышается до кольцовской простоты и прелести. «Буря», «Огородник», «Ты всегда хороша несравненно», «Когда из мрака заблужденья» и, наконец, почти предсмертное: «3-не» дают полную гамму любовных и любящих звуков, и в ее кратких эпизодах, и в художественных, и в высочайше-нравственных. Невозможно без волнения, почти без слез перечитать последнее:
Двести уж дней,
Двести ночей
Муки мои продолжаются;
Ночью и днем
В сердце твоем
Стоны мои отзываются
Темные зимние дни,
Ясные зимние ночи…
3-на! закрой утомленные очи
3-на! усни!
Это потрясает как зрелище спальни и постели умирающего; читаешь стих — как болеешь сам. Такое чувство родины, — не лучше ли, чем в отвлеченной, абстрактной оде, с припоминанием лат Рюрика, оно сказалось в этом кратком напутствии Салтыкову, при его отъезде за границу, умирающего поэта:
О нашей родине унылой
В чужом краю не позабудь.
И возвратись, собравшись с силой,
На оный путь — журнальный путь.
Право же, эта «любовь журналиста» стоит и любви офицера, да она не меньше и любви пахаря-крестьянина к своей земле-родине. Но Некрасов в кратком, небрежном и от этого так искреннем четверостишии, вычеканил как бы «медаль в память» и любви журналиста к земле своей, — и с каким отличительным, характерным колоритом!
* * *Объем каждого писателя, конечно, уменьшается со временем. С каждым десятилетием остается меньше и меньше его произведений, еще живых, еще нужных, еще поэтических на новые вкусы. Поэты — ссыхаются. «Полные собрания сочинений» переходят в «избранные сочинения» и, наконец, в «немногие оставшиеся», которые читаются. В нашей литературе Лермонтов и Кольцов, оба писавшие так мало, являют единственное исключение поэтов почти без ссыхания (например Никитин весь почти высох, от него почти ничего живого, перечитываемого, заучиваемого не осталось). Этой судьбе подлежит и Некрасов и через 25 лет по кончине его едва четвертая доля его стихов остается в живом обороте. Но не говоря о том, что ни в какое время нельзя будет историку говорить о важнейшей эпохе 60—70-х годов XIX века без упоминания и разъяснения Некрасова, и в самой сокровищнице поэзии русской некоторые его стихотворения, как «Влас», и отдельные строфы из забытых стихотворений буквально:
Пройдут веков завистливую дань
и не забудутся вовсе, не забудутся никогда. Их будет всего около десятка листочков, но они останутся, — и, следовательно, Некрасов вообще увеличил «лик в истории» русского человека, русской породы, русской национальности.
***Вопросы. 1) об искренности поэта, 2) о его равенстве или неравенстве с первыми корифеями нашей поэзии и 3) о его личных биографических «прегрешениях» всегда трактовались в каждой о нем критической статье. Всегда слышалось желание защитить память поэта; всегда слышалось желание ударить больно по памяти поэта; увенчать пышнее или развенчать вовсе. Ни для кого не был Некрасов безразличен; «odi» et «amо» («люблю» и «ненавижу») всегда волновались около него при жизни и после смерти. Теперь, в юбилейный день, конечно особенно легко говорить похвалы, но не потому, что это легко, а поистине мы ответим по пунктам на три указанные вопроса.
В последние месяцы, когда мы снова и снова перебирали в уме упрек: «он играл в карты», «ездил для этого в английский клуб», у нас сложился циничный ответ упрекающим: «играл, и представьте, счастливо!» Дело в том, что этот циничный ответ, и следовательно, рвется, так сказать, отражающею рапирою на циничный же вопрос. В вопросе этом сокрывается ужасная боль: боль эта идет, удар наносится завзятым фарисеем и фарисейством. Да, человек играл в карты, имел «страстишку» и даже поглощающую страсть (никто не скажет, что он играл, как торговал, — и при неблагоприятном обороте бросил бы игру: он скорее разорился бы, проигрался в пух), — как решительно все мы, кроме святош! Те не имеют никакой страсти, — кроме самолюбия! Крошечное их «я» сожрало их; святоша вечно носится с собою, так сказать мысленно лобзает себя со словами: «Душка! Какой ты!! Ты не играешь в карты!!!». Как Плюшкина сожрали его деньги, и от человека остался только засаленный халат, — так святошу сожрала «безгрешность моего я» и от него осталась какая-то психологическая кокетка, не могущая отвести лица от зеркала, отражающего из всего мироздания единственное его «я». Эти Нарцисы праведности на самом деле в категории именно праведности не только не стоят на высокой ступени, но и вовсе не стоят на этой лестнице. Они — вне категории добра и зла. Есть мировая загадка, сокрыта некая чудная тайна в том, что стать полным человеком, развитым, одухотворенным, тонким, так сказать, «родиться духом, а не плотски только», — можно единственно ослабнув где-нибудь, в чем-нибудь, — как Некрасов в картах (легчайшая форма падения), но часто в гораздо большем, в тягчайшем. На испытания при приеме в «культ Митры», — пришлось мне прочесть когда-то, — испытуемый проводился между прочим и через ступени «преступления», и до такой степени, что какой-то император римский должен был кого-то убить. Между тем самый культ этот считался кротким и к нему принадлежал Марк Аврелий; в кротчайших религиях, самых мирных, в зерне лежит: «жертва», «пролитие крови», «принесение в жертву жизни». Между тем, конечно, император, которому хотелось только убить, мог войти в тюрьму, проколоть ножом горло десяти приговоренным. Что же могло содержаться в таком «испытании», если в нем, очевидно, не содержалась жестокость, жажда крови?! Да вот «карты» Некрасова, слабость, падение, которое его подняло на такую высоту над праведником-критиком, повторяющим знаменитую стереотипную молитву фарисея: «Боже, благодарю тебя, что я не таков, как вон тот мытарь».
Святая загадка праведной лестницы заключается в том, что высокие ступени одухотворения, тонкости душевной вообще не достигаются без некоторых «падений». И что вечное оплакивание подлинными и удостоверенными праведниками «грехов своих» не есть только присказка, и не есть «уничижение паче гордости», а есть плач о подлинных, настоящих грехах, каких и не узнаешь в миру. Праведники наибольшие суть те, которые наиболыне согрешили: тогда их слово исполняется огнем правды, а сердце источается в любви к слабому, «братскому» (в грехе). Является идея прощения и наконец всепрощения. Таким образом нужно вполне удивляться, что Некрасов, согрешив самою легкою формой греха, картами и Английским клубом, в тонком и нежном сердце своем нашел упрек себе, и чистый и прекрасный, и выразил его в стихотворениях «Рыцарь на час»[93] и «Неизвестному другу», где так удивительно соединены гордость и скромность. Плюшкины праведности таких тонов не знают: они или кичливы, или малодушно испуганы.