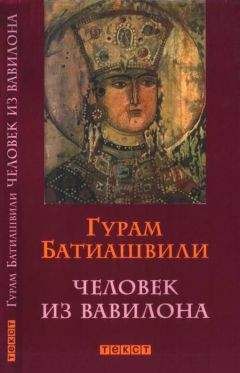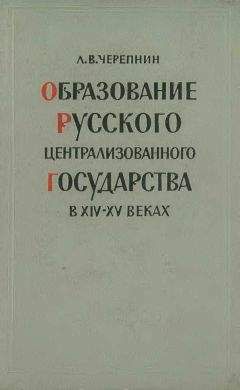Василий Розанов - Русский Нил

Обзор книги Василий Розанов - Русский Нил
Василий Васильевич Розанов
Русский Нил
Вступление
Однажды мне встретилась книга: "Уроженцы и деятели Владимирской губернии, получившие известность на различных поприщах общественной пользы… Собрал и дополнил А. В. Смирнов… Гор. Владимир, 1899". Верно, этот Смирнов перерыл тьму газет и журналов, выискивая имена своих земляков, собирая их «жития», чтобы для памяти потомкам и прославления земли владимирской утвердить дела и помыслы своих сородичей, запечатлеть в истории свою родину. Есть такие книги и для других губерний.
Если бы возродилась прерванная традиция составления таких словарей землячеств, то словарь Волги стал бы богатейшей энциклопедией: Карамзин. Гончаров, Языков, Радищев… И как бы далеко ни уходил человек от своего гнезда, наступает возраст, когда он неодолимо повертывает свой взор в ту сторону, откуда он вышел. "И вот почти в старости, — пишет Розанов, — мне захотелось пережить "опять на родине", пережить этот трогательный сюжет многих русских поэтов".
Он, однако, вышел не с берегов Волги. Розанов родился в дальнем углу лесного костромского края — Ветлуге. В этот уезд с молодой женой пришел письмоводителем его отец, Василий Федорович, не захотевший продолжить дело своего родителя — сельского священника. Он умер молодым, тридцатидевятилетним человеком, оставив сиротами восемь малолетних детей, после чего вдова его возвратилась в родной город — Кострому. Случилось это в 1861 году, когда Васе Розанову было около пяти лет. Розановых тут ожидала полунищета, а детей полное сиротство. После смерти матери в июле 1870 года Василий поступил под опеку старшего брата Николая. Здесь, в доме матери у Боровкова пруда, родилась розановская душа; здесь находился источник «творчества» Розанова — остальное было для него только «образованием». Отзвуки костромской жизни слышны в его автобиографических книгах: «Уединенное» (СПб. 1912), «Смертное» (СПб. 1913), "Опавшие листья" (СПб. 1913; Пг. 1915, 2 "короба"). Эти воспоминания, точно "касания перстами открытых ран", были зачем-то нужны ему, если он выносил их в печать' "Я вышел из мерзости запустения, и так и надо определять меня: выходец из мерзости запустения". Автобиографические страницы в "Русском Ниле" имеют свою жанровую условность ("фельетон для газеты"), но зная другие источники, биограф многое раскроет в недолгом, незаметном, но таком важном периоде жизни Розанова в Костроме.
"О мое страшное детство…
О мое печальное детство…
Почему я люблю тебя так и ты вечно стоишь передо мной…
"Больное-то дитя" и любишь…"
Но это — на закате дней.
Симбирск же был для Розанова «духовной» родиной. Свою отроческую жизнь здесь он описал ярко, с большой памятью о событиях и о тех тончайших движениях, какие обнаруживает душа, когда у нее "растут крылья". Биография Розанова стоит на "трех китах", на трех сваях. Это его три родины: «физическая» (Кострома), «духовная» (Симбирск) и, позднее, «нравственная» (Елец).
Следующая волжская стоянка путешественника Розанова была непродолжительной. Он мало говорит о ней. А рассказать ему было что. В Нижнем Новгороде он закончил гимназический курс и навсегда покинул берега "русского Нила". Гимназические годы В. Розанова прошли под «знаменем» Белинского. Пафос Белинского вызывал в юных душах безудержное стремление к знаниям. И Розанов приступает к широкому освоению культуры; он занимается практически всем: от естествознания до богословия. "Компиляция всегда составляла любимую форму, в которой с гимназических лет выражалась моя усидчивость и прилежность, — писал он в 1914 году. — Начавшись в III-м классе компедированием "Физиологических писем" Карла Фохта, она в V–VI-м классах выразилась в собрании обширных хронологических таблиц, и подборе матерьяла для этих таблиц, для чего я перечитывал книги по истории наук, истории живописи и проч. Матерьялы эти, тогда же собранные, были весьма обширны. Меня занимала мысль уловить в хронологические данные все море человеческой мысли, преимущественнее, чем искусства и литературы, — дав параллельно даты только важнейших политических событий. Вообще история наук, история ума человеческого всегда мне представлялась самым великолепным зрелищем" (ЦГАЛИ, ф. 419, оп. 1 ед. хр. 224 л. 213).
Приобретенные еще в гимназические годы разнообразные сведения стали основой той энциклопедической эрудированности, что окажется впоследствии важнейшей компонентой розановского интеллектуального мира, которому присущи и блистательные аллюзии с историческими понятиями, и причудливые манипуляции символами мировой культуры. Свобода, которую он проявляет в "мировом хозяйстве" (хотя она и не исключает исторической точности и конкретности соотнесения с наличной данностью, столь им уважавшейся), — одно из замечательных свойств его гения.
С берегов Волги Розанов увез не только обширные познания, но и не менее ценное наследие: реализм миросозерцания и глубокую демократичность. Страницы "Русского Нила", как, наверное, ни одно из его произведений, делают очевидными эти черты его личности. Присутствие Розанова в веке XX может показаться случайным — и от этого происходят многие парадоксы розановской биографии: его вкусы и пристрастия скорее относятся к XIX столетию. Это видно уже по тому набору литературных тем, проблем и персоналий, которые вошли в его неизданный сборник статей "О писателях и писательстве": здесь — вся русская литература "от Пушкина до Чехова". Поэтов и писателей XX века Розанов мало жаловал: его критика Блока, Леонида Андреева, Бальмонта и других иной раз напоминает скорее "порку розгами", нежели литературный разбор. "Новых писателей, «молодых», Розанов почти не читал и был к ним равнодушен, — свидетельствует его друг Э. Голлербах. — Однажды принес из кабинета в столовую целую кипу книг Брюсова и, положив передо мной, сказал: "Ну-ка покажите, что тут есть хорошего — вы знаете в этом толк, я ничего не понимаю"". Достаточно назвать его отповедь Ю. Айхенвальду (см.: "Споры около имени Белинского" — "Новое время", 27 июня 1914 года), который «покусился» на имя Белинского, чтобы увидеть в Розанове старинного и преданного ученика "великого критика". И надо перечитать все статьи, "опавшие листья" и "попутные заметки" о Некрасове, прочитать его статью "Юбилейное издание Добролюбова" (иллюстрированное приложение к "Новому времени", 26 ноября 1911 года, стр. 10–11) — и перед нами встанет тот симбирский гимназист из "Русского Нила", которому «свет» и «тьма» открылись в произведениях шестидесятников. И все это написано не сотрудником "Русского богатства" или "Современного мира" — журналов, хранивших "идеалы шестидесятых годов", но человеком с устойчивой репутацией реакционера, мистика, «нововременца» и всего того, что сопровождает его имя в энциклопедических статьях и аннотированных указателях имен. Такой сочетаемости противоположностей у Розанова удивлялись и его современники. "Он совмещает в себе, — писал безымянный обозреватель, — точно два лица, говорящих на двух различных языках" ("Раздвояющийся писатель" — "Вестник Европы", 1897, сент., стр. 422).
Розанов стал "отрицательным героем" на подмостках новейшей русской истории: с его идеями полемизировали левые и правые, декаденты и «церковники». Эта роль «антигероя» оказалась настолько прочной, что даже сегодня, на чуть ли не вековом расстоянии от тех живых событий, когда формировались политические критерии, она осталась почти без переоценки. И для того чтобы ввести Розанова в современную культуру, недостаточно только ослабить всевидящий идеологический контроль — необходимо перевести отношение к нему в иную плоскость. Розанов один из русских писателей, счастливо познавших любовь читателей, неколебимую их преданность. Уразуметь корни этой любви — быть может, главное условие для понимания его наследия.
В литературу Розанов вошел уже сформировавшейся личностью. Его более чем тридцатилетний путь в литературе (1886–1918) был беспрерывным и постепенным разворачиванием таланта и выявлением гения. Розанов менял темы, менял даже проблематику, но личность творца оставалась неущербной.
Условия его жизни (а они были не легче, чем у его знаменитого волжского земляка Максима Горького), нигилистическое воспитание и страстное юношеское желание общественного служения готовили Розанову путь деятеля демократической направленности. По своему темпераменту он должен был стать одним из выразителей социального протеста. Однако юношеский «переворот» изменил его биографию коренным образом, и Розанов обрел свое историческое лицо в других духовных областях.
Рано обнаружившееся философское призвание еще на гимназической скамье включило Розанова в круг тех проблем, которые связаны с популярными в 60-е годы позитивизмом и утилитаризмом Дж. Милля, К. Фохта и других кумиров демократической части русского общества. Тогда у Розанова (IV класс) уже сформулировался этический идеал: "цель человеческой жизни есть счастье". Розанов самостоятельно обосновал эту аксиому, но в его построение включался негативный элемент — безнравственное. Дисгармония цели и условий, сопутствующих ее достижению, разваливала логику «системы», и мысль Розанова оказалась как бы парализована. "Это был первый зародыш всего моего последующего умственного развития, или, точнее, первая формуловка того, что возникло во мне как-то невольно и бессознательно, — писал он своему биографу Я. Н. Колубовскому. — Но я помню ясно, что начиная с этого времени, и чем далее, тем упорнее, я думал об одной этой идее до 3-го курса университета ‹…›. Логическое совершенство этой идеи было полно, но я не был только ее теоретиком. Будучи убежден в ее верховной истинности, я и свой внутренний мир, и свою внешнюю деятельность стал мало-помалу приводить в соответствие с нею. ‹…› Вследствие практических попыток осуществить ее и вследствие постоянного анализа своей души и своей деятельности, в 22–23 года я стоял перед этой идеей, как очарованный, бессильный оторваться от нее и бессильный далее следовать за нею ‹…›" (автобиография В. В. Розанова (письмо В. В. Розанова Я. Н. Колубовскому) — "Русский труд", 16 октября 1899 года, стр. 26).