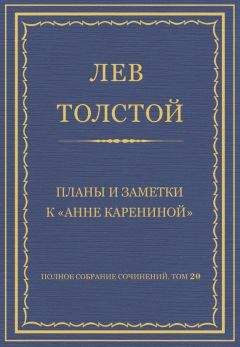Василий Розанов - О писательстве и писателях. Собрание сочинений [4]
Между тем напрасно было бы сказать, что он и не хотел понять. Он не только говорит, что усердно читал книгу Мережковского, но и по множеству данных видно, что он ловил все в ней ценное — с удачей медведя-полоскуна, кидающегося в воду, чтобы выудить лапами из нее игривую рыбку. Ничего не получилось из трехмесячной работы, а с чтением, пожалуй, и из годовой, кроме некоторого остроумия, всегдашней приправы статей Михайловского.
Но зачем он хотел понять непонятные книги, и вникнуть в недоступные темы? Что-то его туда влечет, и Михайловский потому конечно и получил блестящий триумф за 40 лет литературного трудолюбия, что он не только прилежен, но даровит, что он с задатками, хотя без исполнения. «Что-то, черт возьми, есть, чего я не понимаю, хоть и хотелось бы понять». Эта скромность составляет преимущество его над собратьями, девиз которых: «Я очень мало понимаю, но совершенно не важно все, чего я не понимаю». Обращаясь к серьезному тону, спросим: ну, что же он извлек из всех тем Мережковского и Розанова? Ну, неужели нет темы для собственной (Михайловского) мысли в цитатах из Достоевского: «кто почвы под собой не имеет, тот и Бога не имеет», «кто от родной земли отказался, тот и от Бога своего отказался», «у кого нет народа — у того нет Бога», «Бог есть синтетическая личность всего народа, взятого от начала и до конца». Неужели, говорю я, вычитав эти цитаты, возможно не зародиться мыслями, во-первых, о странном существе веры самого Достоевского, а затем и о вечно-любопытном смысле борьбы между древними религиями, которые все были религиями (с усилием) своего народа, своей земли, и тем, кто сказал в видении самому пламенному ученику своему и прозелиту: «иди к язычникам» (иноплеменникам), иди в Рим и Афины, оставив родной тебе и по человечеству Мне Сион своей судьбе». Ни из чего, как из этих цитат, до такой степени не видно, что, во-первых, в Достоевском (его апогее) пылало какое-то язычество русизма, поздно вырвавшийся пламень заглушенной в зародыше веры славянства; пылали молнии Перуна, которому в свое время обрубили серебряные усы, а Достоевский пытался ему сделать даже золотую бороду (пожалуй, Михайловский и теперь скажет, что я говорю непонятно; вообще наивное: «этого я не понимаю» у него так и осыпается после каждой почти цитаты из Розанова и Мережковского). Это, во-первых, в смысле любопытного литературного объяснения, что такое был Достоевский. А во-вторых, через пламень Достоевского, столь религиозный, столь до известной степени святой, ценный, крепкий, цепкий, можно постигнуть, что за сопротивление встретила Христова проповедь в Европе, да и в Сионе, из которых каждый говорил буквально словами Достоевского: «признак уничтожения народностей — когда боги начинают становиться общими. Когда боги становятся общими, то умирают боги и вера в них вместе с самими народами. Чем сильнее народ, тем особливее его бог… Народ — это что-то божие. Всякий народ только до тех пор и народ, пока имеет своего бога особого, а всех остальных богов на свете исключает без всякого примирения, пока верует в то, что своими богами победит и изгонит всех остальных богов» (все цитаты взяты из статьи Михайловского, стр. 166–167). Послушайте, да ведь это чувство — разгадка крика: «ко львам их» римлян о христианах и разгадка же камней избиения, поднимавшихся на ап. Павла в Иерусалиме. Таким образом, Достоевский живым своим чувством, столь огненно сказавшимся, столь прямо религиозным, дает разгадку древнего святого пламени древних религий, которые все стали религиями-родинами в отличие от христианского универсализма; религиями поклонения земле своей, крови своей, роду своему, привычкам, обычаям — до ликторов и консулов включительно, до четырех свеч, зажженных в субботу у евреев. Но что об этом Михайловский написал? Да ничего. Он недоумевает, как Достоевский сочетал сомнение в бытии Божием с признанием и прозелитизмом православия. Да ведь «православие» родной «бог» Руси, в которого (пенат родины) почему же и не веровать против напора предложения веры в какого-то «бога вообще», «бога для мира», «смешанного бога», который, пожалуй, не столько есть «бог», сколько принцип уничтожения всяких вообще на земле «богов», живых и настоящих, действенных и охраняющих их «родины». Выражаясь конкретно, христианство есть вообще движение против «родных пенатов», и тут даже, пожалуй, есть объяснение, отчего Лютер, характерно национальный для немцев тип, выдумал для родины «лютеранство», родного немецкого пената, в стороне от всемирно-уравнительного и всемирно-отвлеченного католицизма. Да и Достоевский понятен, как эмбрион славянского Лютера, тоже пытавшийся оторвать родину вообще от «сгнившего запада», сего «иного бога», «не нашего» и уже ео ipso проклинаемого.
Какая масса света! А Михайловский шипит около него какою-то неудавшеюся ракетою. Ни света, ни красоты; только мальчикам позади фейерверка потеха. Но главное — три месяца! три месяца своей биографии зарезал Михайловский. Он также мало ценит свою кровь, как римский сенатор, выпускающий ее в теплую ванну. «Скучно на этом свете, господа». Впрочем, римский сенатор чувствовал при этом удовольствие, и Михайловский также с видимым удовольствием написал три бессодержательные статьи, ибо безмолвно около каждой его строки есть как бы подпись водяными знаками: «как я умен; я совершенно обладаю своими способностями, как и метранпаж типографии «Русского Богатства», с полным обладанием способностей говорящий мне по телефону: «Н. К., торопитесь дать статью: иначе не выйдет верстка книжки». Но я не знаю, зачем такие метранпажи занимаются критикою, а в игривые минуты даже и начинают рубрики: «Мысли о религии», хотя вовремя обрывают их, переходя в многоточие. И «многоточие»-то и есть единственно глубокомысленная и даже единственно думающая часть «Мыслей о религии»…
25-летие кончины Некрасова
(27 декабря 1877 г. — 27 декабря 1902 г.){13}
«Худо мне! Мой дом — постель. Мой мир — две комнаты; пока освежают одну, лежу в другой», — писал в марте 1877 г. Некрасов. Полгода, тянувшиеся за этими словами, памятны или непосредственно, или через передачу, всем. Это был обоюдный энтузиазм поэта к публике и публики к поэту. Не станем избегать слова: «публика». Некрасов сам не любил и не подставлял вместо ходячих терминов, хотя бы несколько затасканных, других, не вполне точных, хотя бы и более величественных. Русская публика в эти страдальческие дни поэта сказалась истинно благородным существом, как бы протягивавшим руки к одру умирающего, бессильная ему помочь, но говоря ему в письмах и приветствиях все, что может сказать родной родному. Взрывы чувства на минуту, в день или неделю похорон, около незасыпанной могилы, подымаются до этой высоты сродненности; но чтобы они тянулись в этом напряжении полгода — это случилось впервые с Некрасовым. Он не был первым по размеру литературного дарования в царствование Александра II, но его дарование было самым нужным и вместе самым, так сказать, законнорожденным за это царствование; и он может быть назван по справедливости первым поэтом этой эпохи; самым видным, значащим, влиятельным литератором. Кто помнит семидесятые годы, как свои гимназические или студенческие, помнит товарищей, которые никого другого из поэтов (и почти из литераторов), кроме Некрасова, не читали, или читали лишь случайно и отрывочно; зато у Некрасова знали каждую страницу, всякое стихотворение. Знали и любили; не сплошь, не одинаково, но некоторые стихотворения — восторженно.
Некрасов дал первый образ прозаического стиха и был первым публицистом-поэтом, в этом синтезе двух качеств достигнув почти величия. Нам его легко читать; он говорит, как. мы и то же, что мы. Таким образом он стал голосом России; если кто усмехнувшись заметил бы, что это мало и грубо для поэта, тому в ответ мы добавим, что он был голосом страны в самую могучую, своеобразную эпоху ее истории, и голосом отнюдь не подпевавшим, а свободно шедшим впереди. Идет толпа и поет; но впереди ее, в кусточках, в церелеске (представим толпу, идущую в поле, в лесу) идет один певец, высокий тенор, и заливается; — поет одну песню со всеми. И ни к кому он не подлаживается и никто к нему не подлаживается, а выходит ладно.
В это время славянофилы кисли в своих «трех основах», проповеды-вали «хоровое начало», но ничего у них не выходило; а настоящее «хоровое начало» и всяческая русская народность без всякого предварительного уговора и хитрых подготовлений и получилась вот в этой ладной песне тех памятных лет и напр, в таком энтузиазме публики к умиравшему поэту и поэта к ней, какая случилась у постели Некрасова. Не могу никого упрекать, но для дела не могу не заметить, как много дал бы И. С. Аксаков, если бы у его постели случилось подобное же явление: «хоровое начало! матушка Русь!! чую тебя!!! пробудил, возбудил», — думал бы редактор «Руси». Но он всегда был частичным русским явлением, а не общерусским, был фактом кабинета и гостиной, а не улицы, не площади. Именно Минина-то и не выходило. А у Некрасова и вышло нечто вроде Минина, конечно в сообразно изменившейся обстановке, совсем с другими темами, другими задачами, другими речами.