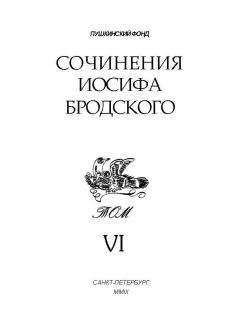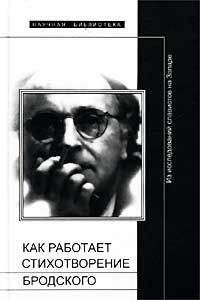Коллектив авторов - Пристальное прочтение Бродского. Сборник статей под ред. В.И. Козлова
Указанное «темное место», завершающее третье стихотворение цикла «Часть речи», — это как раз волапюк, своеобразный результат наложения американского (континент, «держащийся на ковбоях») и русского (в данном случае даже древнерусского) пространств. Однако примечательно, что это наложение дает эффект грамматической неразберихи, что увязывает законы внешнего мира с законами языка, с грамматикой. Этот мотив появится чуть позже — в шестом стихотворении цикла: «За сегодняшним днем стоит неподвижно завтра, / как сказуемое за подлежащим». Указанный здесь грамматический закон следования сказуемого за подлежащим — закон английского языка, который, выходит, определяет логику развития американского настоящего лирического героя. А стихи написаны по-русски. Смешение двух пространств — прошлого русского и настоящего американского — дает волапюк, искусственное смешение, заведомо лишенное логики. Он прочитывается и в контексте лирического героя, который «глаза закатывает к потолку», и в контексте автора-творца, который «слово. забыл».
Четвертое стихотворение цикла продолжает линию смешения двух позиций поэтического сознания: «Это — ряд наблюдений. В углу — тепло. / Взгляд оставляет на вещи след». Начало оформлено голосом автора-творца, фактически обнажающим свою «поэтическую кухню». Первая фраза — своеобразное обращение к читателю, которое должно правильно направить его восприятие стихотворений цикла.
Вторая строка содержит важный мотив отношений между автором-творцом и внешним миром, представленным вещью. Важно, что вещь здесь несамостоятельна и неотделима от человеческого взгляда на нее. Этот поэтический тезис — предпосылка для поэтического выражения зависимости между внешним миром и языком: если вещь неотделима от взгляда на нее, значит, она неотделима и от слова. Вторая строка в каком-то смысле заявляет права автора-творца на творение мира посредством языка. И как бы реализуя это право, автор-творец сразу в декларативной форме устанавливает несколько законов своего мироздания: «Вода представляет собой стекло. / Человек страшней, чем его скелет».
Исследователи творчества Бродского выделяют тип метафор, играющих особое значение в его поэтике. Один из основных типов — метафора-копула, особенность которой состоит в том, что в ней объект сравнения и сравнение напрямую отождествлены по принципу «А есть В» — в данном случае «вода» есть «стекло»[98]. «Поэт… абсолютизирует подобные абсурдные метафоры в декларативном предложении, утверждая посредством этого свою власть в созданном им мире. В этой декларации катахрестической метафоры-копулы отражена установка поэта на сотворение, преобразование мира-текста через языковую метаморфозу»[99].
В этом же стихотворении появляется еще один ключевой образ — след прошлого, с которым всегда имеет дело человек настоящего:
Через тыщу лет из-за штор моллюск
извлекут с проступившим сквозь бахрому
оттиском «доброй ночи» уст,
не имевших сказать кому. (№ 4)
Это предсказание появляется как один из вариантов представления автора-творца о том, что произойдет с течением времени с лирическим героем. В данном случае лирический герой во многом — представитель цивилизации как таковой. Цивилизации у Бродского противостоит Природа. Показательный отрывок из эссе «Меньше единицы», написанного в год окончания цикла «Часть речи», в 1976 году: «Вдоль реки стояли великолепные дворцы с такими изысканно-прекрасными фасадами, что если мальчик стоял на правом берегу, левый выглядел как отпечаток гигантского моллюска, именуемого цивилизацией. Которая перестала существовать»[100]. Очевидно, что в стихотворении и эссе разворачивается один и тот же мотивный комплекс, в котором «моллюск» — одновременно образ лирического героя и погибшей цивилизации[101]. Природа с большой буквы появится в эссеистике поэта чуть позже — в «Путеводителе по переименованному городу» (1979): «В местном ощущении Природы, которая когда-нибудь вернется, чтобы востребовать отторгнутую собственность, покинутую однажды под натиском человека, есть своя логика»[102]. Здесь — тот же апокалиптический мотив: Природа в финале восторжествует над цивилизацией.
Можно выделить и еще один важный нюанс. «Вещь» как один из образов внешнего мира принадлежит цивилизации и не принадлежит Природе. Вещь несамостоятельна, пассивна; природа же — диктатор. Вещь — образ горизонтального мира, «природа», стихия («холод», «вода» и т. д.) — образы, формирующие ценностную вертикаль человека. А уже человек организует мир цивилизации, «оставляет на вещи след».
Человек входит в историю, оставляя след. Но в четвертом стихотворении появляется мотив несоответствия следа произошедшего тому, что собственно произошло. Оттиск «доброй ночи», пересекший века, не сохранит трагедии одиночества и любой другой личной трагедии. Получается, что человек из истории по большому счету исключен. След — явление не человеческого, а «бесчеловечного» (словечко Бродского) ряда. Это образ, предваряющий центральную метафору цикла — «части речи».
В мире цивилизации, представленном вещью, в пятом стихотворении цикла появляется мотив переделывания внешнего мира. Автор-творец как бы впервые почувствовал силу, он начинает переставлять причины и следствия: «Потому что каблук оставляет следы — зима…». Стихотворение заканчивается грамматически несогласованным отрывком, который, однако, звучит не как бессилие контролировать речь, но уже как своеволие автора-творца.
…и под скатертью стянутым к лесу небом
над силосной башней натертый крылом грача
не отбелишь воздух колючим снегом. (№ 5)
Предметы и их связи выходят за пределы грамматики. Но даже здесь отчетливо звучит утверждение неспособности что-либо сделать: «не отбелишь», т. е. не сможешь чего-то изменить. «Не отбелишь воздух» — снова стихия устанавливает предел человеческим усилиям.
Здесь впервые — не прямо — появляется лирическое «ты», которое является формой, объективирующей лирического героя, а заодно обнажающей линию обращения автора-творца напрямую к читателю. «Не отбелишь» — своеобразный посыл автора-творца лирическому герою. Этот посыл герой должен принять.
В пятом стихотворении косвенно получает развитие и мотив следа. В частности, здесь вновь появляется образ, демонстрирующий форму отношений человека и вещи:
В деревянных вещах замерзая в поле,
по прохожим себя узнают дома.
Примечательно, что замерзают — сами «дома», облаченные в «деревянные вещи». Образ дома, который вполне мог бы относиться к образу внешнего мира, в этом стихотворении напрямую связан с человеком, более того — это то, что человек привнес в вещь от себя. Дом — это след человека, такой след может оставлять на вещи взгляд (см. № 3). Это — сердцевина цивилизации, которая затем обрастает вещами. Уже в следующем стихотворении деревянный дом уподобляется «лаокоону», человеческой фигуре, застывшей на пике напряжения в борьбе с бушующим внешним миром.
В шестом стихотворении раскрывается Природа. Изображение начинается «огромной тучей», «порывами резкого ветра», далее:
Низвергается дождь: перекрученные канаты
хлещут спины холмов, точно лопатки в бане. (№ 6)
И вдруг бушующая стихия усмиряется простой аналогией:
Средиземное море шевелится за огрызками колоннады,
как соленый язык за выбитыми зубами.
И затем следует подводящая итог строфа, в которой от стихии не остается следа.
Одичавшее сердце все еще бьется за два.
Каждый охотник знает, где сидят фазаны, — в лужице
под лежачим.
За сегодняшним днем стоит неподвижно завтра,
как сказуемое за подлежащим.
Преодоление разгулявшейся стихии происходит за счет перемены лирическим «я» ценностной позиции. Сначала перед нами герой, который под натиском ветра и дождя «старается удержать слова, взвизгнув, в пределах смысла». Это его «одичавшее сердце все еще бьется за два», еще не умея успокоиться после острого переживания. Но успокаиваться пора: позиция поэтического сознания меняется — «средиземное море»[103] обернулось «соленым языком за выбитыми зубами». А язык — это уже сфера автора-творца, для которого в отличие от лирического героя не может быть ничего неожиданного и пугающего во внешнем мире.
Так показательна строчка «Каждый охотник знает, где сидят фазаны, — в лужице под лежачим». В ней угадывается неожиданный сюжет. Речь идет о несколько измененной известной детской поговорке-упражнении. Полностью она звучит так: «Каждый охотник желает знать, где сидят фазаны». Как известно, фраза зашифровывает в первых буквах последовательность цветов в радуге от красного до фиолетового. В цикле последовательность изменена — выброшено слово «желает». Это изменение в контексте цикла становится достаточно красноречивым. Автор-творец не «желает знать» — он «знает». Что же он знает? «В лужице под лежачим». Вновь перевертыш: согласно известной пословице «под лежачий камень вода не течет», здесь же — «лужица». Как это объяснить? Автор-творец предлагает объяснение для всех вопросов: «За сегодняшним днем стоит неподвижно завтра, / как сказуемое за подлежащим». Получается, нечего «желать», поскольку все желания остались в тех землях, которые он был вынужден покинуть. Там будущее было неопределенно, а значит — было, чего желать. Здесь же будущее настолько же определенно, как и твердо стоящее в английском языке сказуемое. Это осознание заведомой бессобытийности внешнего мира по-новому драматично.