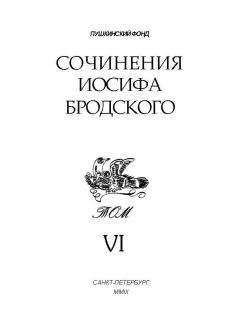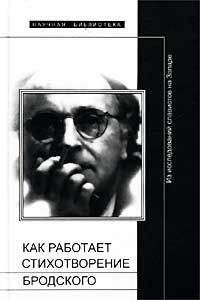Коллектив авторов - Пристальное прочтение Бродского. Сборник статей под ред. В.И. Козлова
Превращение в «часть речи» — это единственная перспектива «всего человека», в том числе — переживающего драму лирического героя. Автор-творец формулирует тезис, который лирический герой должен принять, а, приняв, как бы не драматизировать попусту. Разрешить ситуацию разлуки в письме не удастся: у человека один адресат, у слова — другой, о котором знать не дано, да и «не важно».
Примечательно, что цикл заканчивается возвращением к самой простой форме выражения поэтического сознания — «я»: «Я не то что схожу с ума, но устал за лето». В то же время сохраняется форма второго лица, которая семантически это «я» включает в себя: «За рубашкой в комод полезешь, и день потерян». Такое явное уравнивание в финальном стихотворении автора-творца и лирического героя, который только что был адресатом, создает централизующий систему мотивов эффект. Автор-творец испаряется. Он больше не нужен, поскольку человеческая драма преодолена: «ничего не каплет из голубого глаза». Трагедии, как выразился И. Бродский в разговоре с С. Волковым, был дан «полный ход на себя»[94]. Ценностная позиция автора-творца, говорящего «ниоткуда», оборачивается онтологической возможностью выхода из «безумия» лирического героя. Автор-творец в некотором смысле нашел опору для существования героя.
Последнее стихотворение явно отсылает к первому, как бы демонстрируя, какой духовный путь пройден в двадцати стихотворениях цикла. Вместо «безумия» лирического стихотворения в первом стихотворении в последнем появляется «свобода». Это в том числе и свобода от безумия — состояния, в котором человек в некотором смысле не принадлежит себе. Эта свобода, не избавляющая от одиночества, но делающая его бесчеловечной, но стоически принимаемой нормой.
Поэтическое сознание — внешний мир: приятие бесчеловечных истинПри анализе стихотворения «Ниоткуда с любовью…» было показано, что в какой-то момент мир внешнего, к которому можно отнести природу и предметный мир, предстает как самостоятельная ценностная сила, разделяющая лирического героя с возлюбленной. Но в целом отношения с внешним миром здесь остаются на заднем плане. В отличие от художественного мира всего цикла. Организующая роль ценностного диалога между поэтическим сознанием и внешним миром возрастает от стихотворения к стихотворению — этот диалог становится одним из центральных в цикле. На протяжении цикла взгляд лирического «я» на внешний мир изменяется. Это изменение отражает глубинную эволюцию ценностной позиции поэтического сознания, его качественное преображение.
Развивается он в двух плоскостях — по вертикали автора-творца и по горизонтали лирического героя. Оба варианта даны в «Ниоткуда с любовью…». Автор-творец, открывающий цикл своим прямым обращением к адресату-читателю, задает вертикальное измерение пространства: от «ниоткуда» к «континенту», «городку», к «ручке двери» и на «самое дно» — здесь обнаруживается лирический герой. Пространство лирического героя горизонтально. Где-то на этой горизонтали, значительно «дальше» от него — «за морями» — живет любимая. Если позиция автора-творца активна по отношению к пространству, позиция лирического героя очевидно пассивна. Пространство в горизонтальной плоскости лирического героя обретает черты бесконечности («за морями, которым конца и края») и непреодолимости для человека.
Во втором стихотворении цикла внешний мир сразу подается как активная ценностная сила.
Север крошит металл, но щадит стекло.
Учит гортань проговорить «впусти».
Холод меня воспитал и вложил перо
в пальцы, чтоб их согреть в горсти. (№ 2)
Очевидно, что «северу» во внешнем мире отводится особая роль: его сила не только определяет судьбу и навыки лирического героя («учит гортань», «холод меня воспитал»), но и в каком-то смысле определяет порядок вещей («крошит металл, но щадит стекло»). Мотив диктата внешнего — ключевой не только для стихотворения, но и для цикла.
Появление образов холода, севера может быть в этом стихотворении связано с тем, что «никого кругом». Недаром здесь вновь возникают «моря», за которые «солнце садится». Там, «за морями», — любимый человек, «смех», «речь», «горячий чай», мир прошлого. А здесь «то ли по льду каблук скользит, то ли сама земля / закругляется под каблуком». Важна аналогия «земля» — «лед» — для лирического героя это одно и то же. Между тем, в этих двух строках отчетливо выведено противостояние лирического героя и «самой земли» — то скольжение каблука, то закругление самой земли. Герою недоступно понимание того, кто в этом противостоянии в данный момент побеждает. Но важно, что образ внешнего мира в целом — «земля» — уподоблением «льду» фактически осмысляется как чуждый человеку, диктующий, ломающий его судьбу.
«Север», «холод» — образы, формирующие внешний и вторгающиеся во внутренний мир лирического героя.
И в гортани моей, где положен смех,
или речь, или горячий чай,
все отчетливей раздается снег
и чернеет, что твой Седов, «прощай».
В финале столкновение прямого драматичного обращения к женщине и холода, сковывающего слово «прощай», уподобленное полярнику Седову или одноименному ледоколу, побывавшим в плену северных льдов. Это своеобразная скульптура, слепок внутреннего мира — образ, который в дальнейшем будет серьезно развит.
Север — образ, принадлежащий миру лирического героя, однако наделенный высшей онтологической силой. Север — земной аналог пустоты, образ, формирующий внешний мир автора-творца.
И состояние холода, и явление снега обладают временным измерением. А поскольку в стихотворении «солнце садится», замерзание рассматривается лирическим героем как перспектива развития внешнего и внутреннего мира во времени, белизну снега нарушает только черное слово «прощай». Сам холод заставляет человека противостоять ему словом, но все человеческое обречено на замерзание. Слово «прощай» — первое приближение к метафоре, уподобляющей образы человека и слова, — метафоре, центральной для цикла в целом.
В третьем стихотворении наиболее важен мотив узнавания личного настоящего в историческом (древнерусском) прошлом пространственно далекой культуры.
«Ветер, налетающий на траву», «падающий лист» — признаки настоящего, признаки осени. Настоящее олицетворено и само наделено способностью узнавания: «осень в стекле внизу / узнает по лицу слезу». Точка зрения на пространство здесь меняется: «лицо» и «слеза» — атрибуты лирического героя, но здесь они даны как элегические атрибуты осени.
Последние строчки третьего стихотворения — одно из «темных мест» цикла, которые с трудом поддаются — и заведомо не должны поддаваться — ясной дешифровке в виду нарочитой грамматической несогласованности.
И, глаза закатывая к потолку,
я не слово о номер забыл говорю полку,
но кайсацкое имя язык во рту
шевелит в ночи, как ярлык в Орду. (№ 3)
А.М. Ранчин, пытаясь «восстановить правильный порядок слов» в этом отрывке, приводит десять вариантов, каждый из которых имеет право на существование[95]. Эти варианты дают такой широкий спектр мотивов, что, в итоге, эти строки вписываются во все линии развития лирического сюжета цикла «Часть речи». Однако здесь важно обратить внимание лишь на один аспект их звучания.
В творчестве И. Бродского 1972–1977 годов появляется образ, выражающий неорганическое сочетание в одном человеке двух культур, двух языков — это образ «волапюка». Впервые он появляется в стихотворении «Барбизон Террас» (1974): «Небольшая дешевая гостиница в Вашингтоне», «…кровь в висках / стучит, как не принятое никем / и вернувшееся восвояси морзе», далее: «…амальгама зеркала в ванной прячет / сильно сдобренный кириллицей волапюк / и совершенно секретную мысль о смерти»[96]. Здесь образ «волапюка» прямо увязывается с мотивом безадресности в контексте американского пространства.
Волапюком называется слово искусственного языка, не соответствующее ничему, что есть в мире; кроме того, под волапюком подразумевают смесь двух языков. Понятно, что у Бродского волапюк, отразившийся в зеркале, — это отраженный в зеркале человек, в котором смешались два языка. Он сравнивается с «сильно сдобренным кириллицей волапюком» потому, что смотрится в зеркало «дешевой гостиницы в Вашингтоне (курсив мой. — В. К.)», а не у себя дома «за морями». Того, о чем говорится на языке кириллицы, в Вашингтоне не найти. Потому очевидно — то есть «совершенно секретно» — появляется «мысль о смерти»[97].
Указанное «темное место», завершающее третье стихотворение цикла «Часть речи», — это как раз волапюк, своеобразный результат наложения американского (континент, «держащийся на ковбоях») и русского (в данном случае даже древнерусского) пространств. Однако примечательно, что это наложение дает эффект грамматической неразберихи, что увязывает законы внешнего мира с законами языка, с грамматикой. Этот мотив появится чуть позже — в шестом стихотворении цикла: «За сегодняшним днем стоит неподвижно завтра, / как сказуемое за подлежащим». Указанный здесь грамматический закон следования сказуемого за подлежащим — закон английского языка, который, выходит, определяет логику развития американского настоящего лирического героя. А стихи написаны по-русски. Смешение двух пространств — прошлого русского и настоящего американского — дает волапюк, искусственное смешение, заведомо лишенное логики. Он прочитывается и в контексте лирического героя, который «глаза закатывает к потолку», и в контексте автора-творца, который «слово. забыл».