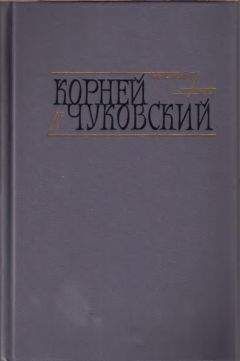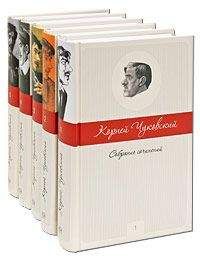Корней Чуковский - Высокое искусство
Много трудностей представляет для переводчика воспроизведение национальной формы киргизского фольклорного эпоса «Манас», потому что, помимо предредифных рифм, почти каждая строка начинается одним и тем же звуком:
Семеро ханов за ним
Сегодня, как братья, идут,
Смело на поганых за ним,
Сыпля проклятья, идут;
Сыновья свекрови твоей,
Связанные печатью, идут.
Или:
Теперь на Большой Беджин посмотри ты, Манас!
Темницы там в землю врыты, Манас!
Те стены железом обиты, Манас!
Тюмени войск стоят у ворот,
Туда пришедший погибель найдет.
Там народ, как дракон, живуч:
Тысяча ляжет, на смену – пять.[123]
Никак невозможно сказать, чтобы это был перевод обрусительный. Напротив, главная его тенденция – верное воспроизведение стилевых особенностей иноязычного подлинника.
Даже это щегольство многократностью начального звука, свойственное ориентальной поэтике, воспроизведено здесь пунктуальнейшим образом. И хотя русский синтаксис перевода вполне безупречен, самое движение стиха придает этому синтаксису своеобразный характер: даже в том, как расположены в каждой фразе слова, даже в игре аллитераций и внутренних рифм сказывается стремление донести до советских читателей – как некую великую ценность – национальный стиль киргизской эпопеи. Бессмертная казахская эпопея «Козы-Корпеш и Баян-Слу» передана Верой Потаповой на русский язык во всем блеске своей узорчатой звукописи.
Справедливо сказано в первых строках:
Преданий древних золотой узор
Плетет акын, как мастер ткет ковер[124].
Простейший образец этого «золотого узора» – четверостишие, оснащенное тремя концевыми рифмами: ааба:
– Послушай, Карабай, – кричит гонец, –
– Благая весть – отрада для сердец.
– В степи найти мне надо Сарыбая.
– Он – первенца желанного отец!
(449)
Более сложный звуковой узор: три редифные рифмы и одна концевая:
Он говорит: – Глупцы, невежды вы!
Еще питаете надежды вы?
Пред вами – Сарыбай, смеживший вежды!
Взгляните на его одежды вы.
(453)
Еще более сложный узор: та же конструкция, но с дополнением средних созвучий (в первой половине строфы):
С руки украдкой сокол улетел.
За куропаткой сокол улетел
Пришел, плешивый, с хитрою повадкой.
Загадкой испытать меня хотел.
(455)
В подлиннике на четыре строки – шесть внешних и внутренних рифм. Вера Потапова считает себя обязанной строить каждое четверостишие так, чтобы в нем было такое же количество рифм. Казалось бы, эта задача сверх человеческих сил, особенно если принять во внимание, что таких четверостиший не два и не три, а сотни. Всюду то же упоение музыкой слов, те же переклички концевых и внутренних созвучий:
Теперь тебе поверил я, мой свет!
Иди к своей невесте, – молвил дед, –
Ни горестей, ни бед не знай, не ведай,
Живи с любимой вместе до ста лет.
(497)
Всюду – преодоление громаднейших трудностей, вызванное страстным желанием воссоздать замечательный памятник народной казахской поэзии во всем великолепии его форм. Даже тогда, когда в подлиннике встречается текст, требующий от переводчика девяти рифм – не меньше! – Вера Потапова не отступает и перед этой задачей и оснащает свой перевод девятью рифмами.
Когда уехал Сареке,
Зари блистал багрец.
Едва ли ханом Балталы
Другой бы стал пришлец!
Являл он разума пример
И чести образец.
Владел он золотой казной,
Отарами овец.
Но долголетья не судил
Правителю творец!
Пускай растет Козы-Корпеш
Отважным, как отец.
Сама народом управляй,
Покуда мал птенец,
Со многими держи совет,
Как Сарыбай, мудрец.
Тогда опору ты найдешь
Среди людских сердец.
(456)
Другая поэма, входящая в эту книгу, «Алпамыс-батыр», дана в переводе Ю. Новиковой и А. Тарковского, которые так же верны национальным канонам казахского подлинника. Ритмика «Алпамыса» изменчива: строка из шести слогов сменяется в иных случаях трехсложной строкой. Переводчики воспроизвели в переводе и эту особенность оригинального текста:
Алпамыс покинул ее,
Ускакал…
И острый кинжал
У нее в руке
Задрожал,
Ищет смерти она в тоске[125].
Но вот разностопность сменяется правильным чередованием одинакового количества стоп. Переводчики считают долгом чести воспроизвести в переводе и этот ритмический рисунок:
Он страну
Пустил ко дну.
Он давно
Проел казну.
Как налог,
Берет он скот.
Изнемог
Простой народ[126].
При переводе кабардинского эпоса переводчики встретились с такими же трудностями и проявили такую же сильную волю к творческому преодолению их. Знатоки народных кабардинских сказаний и песен, объединенных под общим названием «Нарты», определяют эти трудности так:
«Музыкальное богатство кабардинского стиха составляют внутренние созвучия. Последние слоги предыдущей строки повторяются начальными слогами последующей, затем в середине третьей строки и снова возникают в пятой или шестой строках. Звучность стиха усиливают анафоры – то есть повторения сходных слов, звуков, синтаксических построений в начале строк»[127].
Переводчики старались передать возможно точнее эти особенности кабардинского стиха. Вот типичный отрывок из «Сказания о Нарте Сосруко» в переводе замечательного мастера Семена Липкина:
Шли на Хасе Нартов речи
О геройской сече грозной,
О путях непроходимых,
О конях неутомимых,
О набегах знаменитых,
О джигитах непоборных,
Об убитых великанах,
О туманах в высях горных,
О свирепых ураганах
В океанах беспредельных,
О смертельных метких стрелах,
О могучих, смелых людях,
Что за подвиг величавый
Песню славы заслужили.
«В этом отрывке, – говорят исследователи, – сочетаются почти все особенности кабардинского стиха: и своеобычный рисунок рифмы-зигзага – „знаменитых – джигитах – убитых“ или „великанах – туманах – океанах“, и концевая рифма (в сочетании с внутренней) – „о путях непроходимых, о конях неутомимых“, и анафора в синтаксическом построении строчек. Читатель, конечно, заметит, что в этом отрывке слово „речи“, стоящее в конце строки, рифмуется со словом „сече“, стоящим в середине строки. То же самое следует сказать о рифмах „стрелах – смелых“, „величавый – славы“[128]».
Эти формы стиха свойственны не одним кабардинцам. Они присущи большинству произведений ориентальной поэзии. Для Семена Липкина они стали родными, словно он казах или киргиз. Органически усвоив эти трудные формы, он за четверть века своей неустанной работы воссоздал для русских читателей гениальные эпопеи Востока: «Лейли и Меджнун», «Манас», «Джангар». Где ни откроешь его перевод этих старинных восточных поэм, всюду граненый, ювелирный, узорчатый стих.
Впрочем, в тех случаях, когда этого требует подлинник, Липкин воздерживается от такого чрезмерного богатства созвучий, но всегда сохраняет живую, естественную, непринужденную, безошибочно верную дикцию:
В те дни, когда Джемшида славил мир,
Жил в Руме знаменитый ювелир.
Он зодчим был, а также мудрецом.
Гранильщиком и златокузнецом.
Однажды шаху молвил ювелир:
«О царь царей! Ты покорил весь мир,
Ты всех владык величьем превзошел, –
Достойным должен быть и твой престол.
О шах! Твой лик – счастливый лик зари.
Пусть прочие владыки и цари
Довольствуются деревом простым,
Но твой престол – да будет золотым!.. »
Всем сердцем принял шах такой совет.
«О светоч знаний!» – молвил он в ответ.
«Ты хорошо придумал, чародей,
Начни же труд желанный поскорей!»[129]
Таким классически четким стихом звучит в переводе С. Липкина поэма великого узбекского поэта-мыслителя Алишера Навои «Семь планет». Прославляя в ней искусство ювелира, Навои сравнивает с ювелиром – поэта:
Когда слова нанижет ювелир,
Их стройной красоте дивится мир.
Липкин представляется мне именно таким ювелиром, «златокузнецом и гранильщиком», создающим драгоценные ожерелья стихов. Первооткрыватель восточного фольклорного эпоса, зачарованный его красотой, Липкин приобщает к своему восхищению и нас. Хотел бы я видеть того неравнодушного к поэзии человека, который, начав читать «Семь планет» в липкинском переводе, мог бы оторваться от книги, не дочитать до конца.