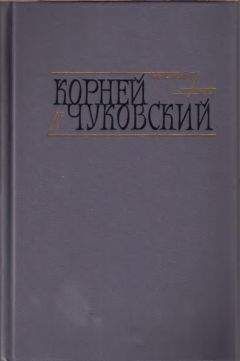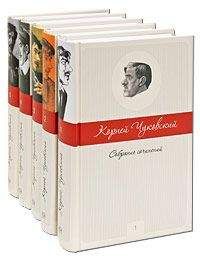Корней Чуковский - Высокое искусство
Особенно мне жаль «деревянного бушлата». В народе с незапамятных времен так называется гроб. «Деревянная шуба», «деревянный тулуп» – обычная метафора в речи крестьян. Казалось бы, трудно ли перевести:
«Не подпишешь – бушлат деревянный». (59)
Но переводчик и здесь оказался верен своей установке: долой образную народную речь! – и заменил ее пресной банальщиной: «Если бы он не подписал (признания в своей мнимой вине), его расстреляли бы». (78)
Текст русской повести весь построен на внутреннем монологе деревенского человека, бывшего колхозника, солдата. И не нужно отличаться слишком изысканным слухом, чтобы заметить, что этот текст подчинен ненавязчивому сказовому народному ритму:
Ой, лють там сегодня будет:
двадцать семь с ветерком,
ни укрыва, ни грева!
И – И | И – И | – И
ИИ – И | ИИ –
ИИ – И | ИИ – И | И
Даже это дважды повторенное ва (в последней строке) верная примета напевности повествования. Но у переводчика нет даже намека на ритм.
Если бы английский перевод перевести обратно на русский язык, автор не узнал бы своей повести: переводчик-опреснитель планомерно и систематически вытравил из нее все особенности ее терпкого стиля и перевел ее на химический чистый – без всякого цвета и запаха – язык учебников и классных упражнений.
Словом, только те читатели, у которых нет ни художественного чутья, ни любви к своему языку, скажут, что перевод этот точен. Но всякий, кто не совсем равнодушен к искусству, увидит здесь беспощадное искажение подлинника…
Прокурор делает короткую паузу и с новым ожесточением, еще более бурным, обрушивает на подсудимого свой праведный гнев. – Чтобы суд, – говорит он, – мог яснее представить себе, какой убыток приносит читателям отказ переводчиков от воспроизведения простонародного стиля, приведу один из наиболее наглядных примеров – перевод «Ревизора», исполненный в США мистером Бернардом Гильбертом Герни.
– Стиль Гоголя, – продолжает свою речь прокурор, – характеризуется буйными словесными красками, доведенными до такой ослепительной яркости, что радуешься каждой строке, как подарку. И хотя знаешь весь текст наизусть, невозможно привыкнуть к этому неустанному бунту против серой банальности привычной штампованной речи, против ее застывших, безжизненных форм.
Отвергая «правильную» бесцветную речь, Гоголь расцветил всю комедию простонародными формами лексики.
Не «бей в колокола», говорят в «Ревизоре», но «валяй в колокола».
Не «заботы меньше», но «заботности меньше».
Не «получить большой чин», но «большой чин зашибить».
Не «пьяница», но «пьянюшка».
Этой простонародностью и должен был окрасить свой перевод мистер Герни.
Если он стремился к тому, чтобы его перевод был художественным, он должен был так или иначе сигнализировать англо-американским читателям, что в подлинном тексте написано:
Не «обида», но «обижательство».
Не «сойти с ума», но «свихнуть с ума».
Не «истратил денежки», но «профинтил денежки».
Не «привязался к сыну купчихи», но «присыкнулся к сыну купчихи».
Он должен был ввести в свой перевод экспрессию простонародного стиля.
Не мог же он не заметить, что унтер-офицерша, повествуя о том, как ее высекли, говорит не высекли, но отрапортовали: – Бабы-то наши задрались на рынке, а полиция не подоспела, да и схвати меня, да так отрапортовали: два дня сидеть не могла. Не подрались, но задрались, не схватили, но схвати и так далее.
Весь этот бунт против мертвенной гладкописи непременно должен был отразить мистер Герни в языке своего перевода, потому что здесь-то и заключается самая суть гоголевской стилистики. Не воспроизвести этой сути – значит не дать иностранным читателям ни малейшего представления о Гоголе.
Кто из русских людей, говоря о «Ревизоре», не вспомнит с восхищением таких «гоголизмов», без которых «Ревизор» – не «Ревизор»: «не по чину берешь», «бутылка толстобрюшка», «эй вы, залетные!», «вам все – финтирлюшки», «жизнь моя… течет… в эмпиреях», «эк куда метнул!», «в лице этакое рассуждение», «ах, какой пассаж!», «в комнате такое… амбре», «а подать сюда Ляпкина-Тяпкина!», «Цицерон с языка» и так далее и так далее, – недаром все эти слова и словечки тотчас же после появления «Ревизора» в печати демократическая молодежь того времени ввела в свой языковой обиход.
А мистер Герни лишает их всякого подобия крылатости.
Когда, например, у Гоголя один персонаж говорит: «Вот не было заботы, так подай!» – мистер Герни обволакивает эту лаконичную фразу-пословицу такой тягучей и тяжеловесной канителью:
– Ну, в последнее время у нас было не так уж много забот, зато теперь их очень много и с избытком.
Там, где у Гоголя сказано: «Эк, куда хватили!» – у мистера Герни читаем:
– Конечно вы захватили значительную часть территории.
Мудрено ли, что, читая такой перевод, иностранцы при всем желании не могут понять, почему же русские люди считают этого унылого автора одним из величайших юмористов, какие только существовали в России, почему, хотя николаевская кнутобойная Русь отодвинулась в далекое прошлое, «Ревизор» воспринимается нами не как исторический памятник, а как живое произведение искусства.
Как бы для того, чтобы окончательно уничтожить в своем переводе колорит эпохи и страны, переводчик заставляет Хлестакова сказать об одном из тогдашних российских романов:
«Бестселлер»!!!
Мистер Герни далеко не всегда понимает идиомы переводимого текста, но, повторяю, если бы даже он не сделал ни единой ошибки, если бы он даже не прибегал к отсебятинам, все равно это был бы ошибочный перевод «Ревизора», так как в нем не передан стиль гениальной комедии.
Я нарочно взял для примера работу одного из наиболее квалифицированных мастеров перевода.
Кроме «Ревизора», мистер Герни перевел «Отцов и детей», «Трех сестер», «Слово о полку Игореве», «Шинель», «Гранатовый браслет», «На дне», стихотворения Пушкина, Маяковского, Блока, а в последнее время в Нью-Йорке вышла составленная им «Антология советских писателей»[133].
Повторяю: это деятельный и дельный литературный работник, и показательно, что даже он спасовал, когда дело дошло до воссоздания просторечного стиля.
Возьмем хотя бы сделанный им перевод «Мертвых душ», который у него озаглавлен «Путешествия Чичикова, или Домашняя жизнь старой России». Перевод этот вышел в 1924 году в издательстве нью-йоркского «Клуба читателей» («Chichikov’s Journeys, or Home Life in Old Russia»).
Нельзя не отнестись с уважением к этому большому труду. «Мертвые души» переведены Бернардом Герни гораздо лучше, чем «Ревизор». Найдено много эквивалентных речений, недоступных другим переводчикам.
И все же те причудливые, яркие, выхваченные из самой гущи народной слова-самоцветы, которыми славится гениальная лексика Гоголя, стали у переводчика тусклыми и утратили свою самобытность.
Гоголь, например, говорит:
«Омедведила тебя захолустная жизнь». У переводчика банальная гладкопись: «Вы превратились в медведя из-за своей жизни в глуши» (179).
Гоголь:
«Поезжай бабиться с женой».
Мистер Герни:
«Ступай и проведи приятное время со своей женой» (65).
Гоголь:
«Ах, какие ты забранки пригинаешь».
Мистер Герни:
«Какую ты произносишь ужасную брань» (44).
У Гоголя Чичиков, забрызганный грязью, раздевается и отдает Фетинье «всю снятую с себя сбрую».
У мистера Генри сбруя превратилась в «одежду» (garments, 37).
Такое обесцвечивание, опреснение Гоголя происходит на всем протяжении поэмы. Убытки иноязычных читателей «Мертвых душ» неисчислимы. Особенно горько, что такой же убогой банальщиной заменены в переводе не только слова, но и целые фразы Гоголя. Мы с детства привыкли восхищаться таким, например, гоголевским дифирамбом искусству сапожника:
«Что шилом кольнет, то и сапоги, что сапоги, то и спасибо!»
И можно представить себе, как возмутился бы Гоголь, если бы мог предвидеть, что эта крылатая фраза, ставшая у нас поговоркой, будет представлена зарубежным читателям так:
«Проткнет своим шилом кусок кожи, и готова для вас пара сапог, и нет такой пары, за которую вам не хотелось бы поблагодарить» (83).
И не обидно ли, что другая лаконичная русская фраза:
«Ведь предмет просто: фу-фу» – превратилась у переводчика в такое уныло-канительное сочетание слов:
«Ведь обсуждаемое нами дело имеет не более содержания (substance), чем дуновение воздуха!» (89).
Если лучшие переводчики считают себя вправе так коверкать гоголевский стиль, что же сказать о худших? Худшие в своем презрении к этому стилю доходят до такого цинизма, что, например, встретив у Гоголя незабвенное словечко Плюшкина о каком-то чиновнике: