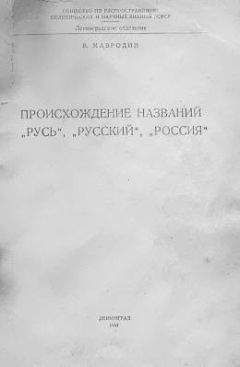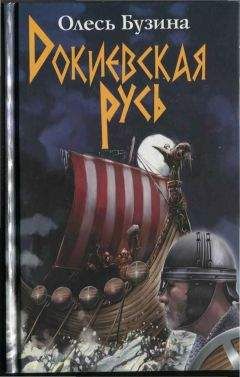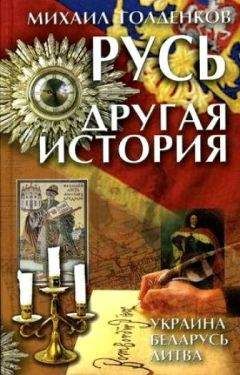Самарий Великовский - В скрещенье лучей. Очерки французской поэзии XIX–XX веков
Поясняя свой замысел, для тех лет дерзостно-непривычный, Бодлер ссылался на годами бродившие у него в уме «мечты о чуде поэтической прозы, музыкальной без размера и ритма, достаточно гибкой и вместе с тем неровной, чтобы примениться к лирическим движениям души, волнистым извивам мечтаний, порывистым прыжкам сознания». Своим прямым предтечей он называл Алоизия Бертрана, однако добавлял, что «попытка прибегнуть к тем же приемам для описания» уже не Средневековья, как в бертрановском «Ночном Гаспаре», а «сегодняшней жизни» в конце концов дала «нечто странным образом другое» – «новое и по миро ощущению, и по выражению».
Основной пласт «Парижской хандры» – непосредственное продолжение предпринятых еще в «Цветах Зла» раскопок «волшебно-чудесного», будь оно исполненным очарования или жути, в самой что ни на есть заурядной городской повседневности. К жанровому изобретательству в пограничье прозы и поэзии Бодлера подталкивала потребность прочно внедрить обыденное, до тех пор бывшее достоянием романных повествований и отчасти театра, в самую ткань лирики, которая дольше своих соседей питалась преимущественно токами придворной или, в крайнем случае, сельской цивилизации.
Культура романтиков, за немногими, сравнительно робкими исключениями (вроде ценимой за это Бодлером ранней лирики Сент-Бёва), чуралась городских стен, разве что это был город старинный с его «дворами чудес», пламенеющей готикой соборов, буйством карнавала; вслед за Руссо она порывалась бежать на лоно природы, к брегам озер и морских лагун, в безлюдные горы, привольные долины. Бодлер тоже из семейства задумчивых любителей одиноких прогулок, каковое расселилось в словесности с конца XVIII в., и, по жалуй, не хуже своих старших умеет порой насладиться мигами блаженства, когда личность, отринув от себя постылые житейские обязательства и заботы, причащается бегу «облаков, что плывут в вышине, там над нами… волшебных облаков» («Чужестранец»). Ее слияние с бездонной вселенной столь нерасторжимо тогда, что уже не различить, то ли вещи «мыслят моим мозгом – то ли это мой мозг мыс лит ими (ведь в безмерности грезы «Я» теряется быстро). Да, они мыслят, говорю я, но мыслят музыкально и живописно, без хитросплетений рассудка, без силлогизмов и выкладок» («Покаянная молитва художника»).
И все-таки глухим лесным тропам Бодлер предпочитает мостовые, а «жизненных пиршеств» чаще всего ждет от купаний в столичном «людском море»; ему уже ведома горькая и манящая тайна самочувствия горожанина в том скопище, что сто лет спустя будет названо «толпой одиночек»: «Многолюдье, одиночество – слова эти равны и легко заменяют друг друга» («Толпы»).
Поэтому разрыв, который приковывает его помыслы и гнетет, не столько между человеком и вселенской жизнью, – здесь мосты наводятся, хотя и не без труда, – сколько между самими людьми.
Между «я» и «другими», родом и отпавшей от него особью, между довольным собой братством – с лица и злосчастьем пасынков – с изнанки («Старый паяц»). К этой расщелине как причине жестоко ранящих гримас жизни, он, точно завороженный, снова и снова возвращается, независимо от того, намерен ли воплотить свои тревожные раздумья о ней в мгновенной зарисовке («Шут и Венера», «Глаза бедняков», «Вдовы») или они вырастают до крохотного рассказа или очерка («Веревка», «Мадемуазель Бистури»), а то и панорамного обзора («Вечерние сумерки»), подкрепляются ли они моралистическим суждением под занавес («Пирожок») или умело найденной подробностью – такой, как равная белизна зубов двух детей, богатого и нищего, играющих по разную сторону садовой ограды один роскошной куклой, другой – дохлой крысой, испытывая жгу чую взаимную зависть («Игрушка бедняков»). Описание у Бодлера, слепок с достоверно происшедшего, вместе с тем имеет обычно неожиданный сдвиг («Фальшивая монета», «Собака и флакон»), таит в себе какую-то несообразность («Дурной стекольщик», «Избивайте нищих!»), а нередко выливается в притчевую фантасмагорию:
Под серым необъятным небом, на пыльной необозримой равнине, где ни тропинки, ни травы, ни чертополоха, ни крапивы, мне повстречалась толпа бредущих куда-то вдаль согбенных странников.
И на спине каждый тащил огромную Химеру, увесистую, словно мешок муки или угля или словно ранец римского легионера.
Но совсем не казались мертвой ношей эти чудовищные твари; сов сем нет: они вцеплялись в людей мощной хваткой, всей силой упругих мышц, они вонзали в грудь своих усталых кляч два громадных когтя; их причудливые рыла нависали над человеческими головами подобно устрашающим гребням древних шлемов, которыми античные воины пугали врагов.
Я обратился к одному пилигриму, спросил, куда они идут. Он отвечал, что не знает, что это никому не известно, но, очевидно, они куда-нибудь идут, поскольку что-то заставляет их куда-то брести.
Что было странно: никто из этих пешеходов, казалось, даже не замечал чудовища, обхватившего шею, приросшего к спине; словно эта тварь была лишь частью человеческого тела. Я не заметил отчаяния на этих строгих усталых лицах; путники брели под унылым куполом неба, их ноги утопали в пыли равнины, пустынной, как небо свод; они брели с покорным выражением лица, как все обреченные на вечную надежду.
Процессия тянулась, проходила рядом со мной, тонула в дымке горизонта, там, где закругляется поверхность земли и прячется от любопытных человеческих глаз.
Сперва еще я пытался понять, что означало это таинство, но вскоре на меня навалилось тупое равнодушье, и я ощутил тяжесть, какой не ощущали эти люди, таща на спине свои Химеры.
«У каждого своя химера». Перевод А. РевичаНаряду с той или другой толикой «странного» в каждодневно-стертом, примелькавшемся, прозаический отрывок де лает стихотворением в прозе его повышенная смысловая и структурная напряженность. Она достигается у Бодлера густой лирической насыщенностью внутренней атмосферы та кого отрывка – доверительно исповедальной («Полмира в волосах», «Опьяняйтесь!»), желчно саркастической («В час утра», «Дары фей»), овеянной грезами («Приглашение к путешествию», «Прекрасная Доротея»), несущей в себе выстраданный вызов («Куда угодно, лишь бы прочь из этого мира»). Собственно, в совмещении вроде бы несовместимых умонастроений Бодлер и видел неповторимый уклад городского жизнечувствия, переплавившего в своем горниле край не несхожие между собой нравы, судьбы, переживания, помыслы. В самом письме стихотворений в прозе он искал прежде всего единства чересполосицы сталкивающихся и переходящих друг в друга словесных построений – то прихотливо вьющихся, изысканных, струящихся, то взрывных, задыхающихся, то круто взмывающих вверх в увлеченном порыве, то устало опадающих в афористично оброненной житейской мудрости. Тщательная проработка и отделка сырья наблюдений, до того отталкивавшего большинство французских лириков своей неказистостью, давались Бодлеру мучительно трудно. Однако полученный результат вполне оправдал обращение к Парижу в одном из бодлеровских рукописных набросков: «Ты дал мне грязь, и я обратил ее в золото».
С тех пор как четыре года спустя после смерти Бодлера мало к кому питавший почтение ершистый подросток-бунтарь Рембо по-своему подтвердил, что бодлеровское лирическое «золото» действительно самой высокой пробы, когда признал в письме к другу: «Бодлер… король поэтов, настоящий бог», – мнение это только укреплялось. Сегодня оно во Франции непререкаемо.
«Про́клятые»
Надтреснутое, тронутое какой-то неизлечимой червоточиной жизнечувствие «конца века», впервые давшее о себе знать в «Цветах Зла», вскоре на разные лады откликнется едва ли не у всех сколько-нибудь крупных лириков Франции последней трети XIX столетия. Судьбы их, да и самый настрой умов, так или иначе отмечены печатью неприкаянности, душевного разлада, изгойства – «про́клятости», если воспользоваться словом одного из них и самого среди них одаренного, Верлена. Неблагополучие и всегдашний их житейский удел, и возвещаемая ими правда – правда всякий раз недужная. Хрипы и плач сородичей по семейству «про́клятых» пробиваются из-под глыб бодряческой неправды охранителей устоев как истинная ее подноготная и вызов сытому самодовольству.
Сумеречное томление духа было чревато сползанием к упадочничеству, и вслед за Бодлером непосредственные его преемники этой опасности не миновали: оно им в большей или меньшей степени присуще. Хотя и отнюдь не исчерпывает их умонастроений, коль скоро есть то, что пробуют в себе превозмочь, одолеть, над чем хотели бы подняться. Собствен но, здесь, в подмеченной еще нашим Блоком у Бодлера способности или хотя бы уповании, «находясь в преисподней… грезить о белоснежных вершинах», и коренится разница меж ду «героизмом времен упадка», по Бодлеру, и декадентством как таковым, покорно согласившимся со своей ущербностью, а порой и возводившим сердечную хворь, тепличное худосочие в утонченную доблесть, как это делали сотрудники журнальчика «Декадент», выпускавшегося в середине 1880-х годов. Те из «про́клятых», чьи исповеди и поиски составляют непреходящее достояние французской лирики, подчас смыкались с упадочническим поветрием и им проникались, однако всегда не без внутреннего непокорства, тяготясь как на пастью и взыскуя хоть как-то, каждый по-своему, с нею справиться. Неизменно сохраняемая доля сопротивления осаждающей отовсюду и угнездившейся в них самих болезненной нравственной смуте и обеспечивала неподдельно трагический накал признаниям таких «прóклятых», как Верлен, Кро, Корбьер, Нуво, Лафорг, Лотреамон, выделяя их из множества упоенных собой ее воспевателей, с наслаждением лелеявших собственную изысканную выморочность.