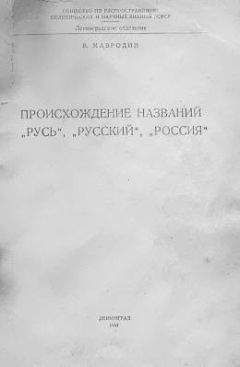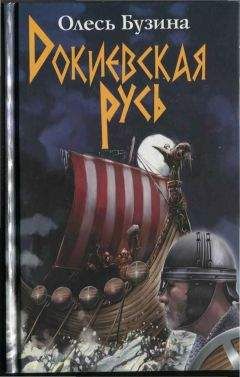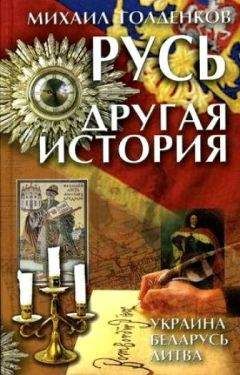Самарий Великовский - В скрещенье лучей. Очерки французской поэзии XIX–XX веков
Запутанная внутренняя правда чувства для Бодлера – любовного лирика вообще важнее моралистического долженствования, а тем паче портретных описательных задач. Облик той или иной женщины под его пером – это скорее повод для вызванного ею в данный миг собственного душевного настроя, так что и на девичью весну может быть перенесено отнюдь не весеннее самочувствие поклонника: «Ты вся – осенний небосклон, розовый и светлый» («Разговор»). Действительные черты возлюбленной – запах кожи, цвет волос и глаз, звучанье голоса – сплошь и рядом едва упомянуты и служат Бодлеру с его изощренной ассоциативной чувствительностью толчком к тому, чтобы начал разматываться клубок завораживающих воспоминаний или сновидческих фантазий. Обладая гораздо большей зрелищностью, плотностью, ощутимостью, чем ее лицо или стан («Экзотический аромат», «Вся целиком»), они складываются в зыбкий, намекающий отсвет самого переживания в его не поддающихся прямой разгадке, но со всей непреложностью угадываемых метаморфозах.
Не менее насыщен положениями двойственными, промежуточными, внезапно опрокидывающимися и круг преобладающих у Бодлера умонастроений. Томительная скука временами источает апокалипсические наваждения («Фантастическая гравюра»), повергая в уныние и сломленность («Крышка»), выплескивается желчной язвительностью («Плаванье»), а то и побуждает устремляться душой в царство сладостных снов («Приглашение к путешествию») или, наоборот, изливается яростным бунтом:
Род Авеля, блаженный в Боге,
Тебе даны и сон и снедь.
Род Каина, тебе, убогий,
Во прахе ползать и истлеть.
…………………………………
Род Авеля, тебе во благо
Тучнеет злак, плодится скот.
Род Каина, как пес-бродяга,
Скулит голодный твой живот.
Род Авеля, твой дом – чертоги,
Тебя согрел очаг родной.
Род Каина, в своей берлоге
Ты, как шакал, дрожишь зимой.
………………………………………
Род Авеля, владея садом,
Пасешься ты, подобно тле.
Род Каина, тебе и чадам
Блуждать бездомно по земле.
Род Авеля, тебя ждет плаха
И вскинутых рогатин лес.
Род Каина, восстань из праха
И сбрось Всевышнего с небес!
Мятежное богоотступничество, когда всему земному творению выносится не подлежащий обжалованию приговор и с уст срываются клятвы переметнуться в стан Князя преисподней («Отречение святого Петра», «Моление Сатане»), нет-нет да и рассекает своими зарницами свинцовую мглу тоски, усталой подавленности («Разбитый колокол», «Осенняя песня», «Дурной монах»), цепенящего страха перед необратимым ходом времени («Часы»), бреда при белом дне («Семь стариков», «Скелет-землероб») – всех тех мучительных душевных перепутий, проникновенность передачи которых особенно способствовала распространению славы Бодлера к концу XIX в.
Когда свинцовость туч нас окружает склепом,
Когда не в силах дух унынье превозмочь,
И мрачен горизонт, одетый черным крепом,
И день становится печальнее, чем ночь;
Когда весь мир вокруг как затхлая темница,
В чьих стенах – робкая, с надломленным крылом,
Надежда, словно мышь летучая, кружится
И бьется головой в бессилии немом;
Когда опустит дождь сетчатое забрало,
Как тесный переплет решетчатых окон,
И словно сотни змей в мой мозг вонзают жало,
И высыхает мозг, их ядом поражен;
И вдруг колокола, взорвавшись в диком звоне,
Возносят к небесам заупокойный рев,
Как будто бы слились в протяжно-нудном стоне
Все души странников, утративших свой кров, –
Тогда в душе моей кладбищенские дроги
Безжалостно влекут надежд погибших рой,
И смертная тоска, встречая на пороге,
Вонзает черный стяг в склоненный череп мой.
Сугубо личное всякий раз слегка повернуто у Бодлера так, чтобы вобрать правду трагического удела людского и заставить даже умы, наделенные крепким здоровьем, опо знать свои черные часы в бодлеровских сетованиях-изобличениях самого себя. Рассказ о своих срывах молчаливо подразумевает тут незащищенность и других – близких и дальних собратьев по роду человеческому – перед разрушительными соблазнами («Полночная самоповерка»), а не редко и подкреплен прямым размышлением о тщете, обманчивости упований там, где «мечта в разлуке с действием» («Отречение святого Петра»), о смертной доле всех живущих на земле:
Да, бездна есть во всем: в деяниях, в словах…
И темной пропастью была душа Паскаля.
Из бездны Смерть глядит, злорадно зубы скаля,
И леденит мне кровь непобедимый Страх.
Томят безмолвные пугающие дали,
Ужасна глубина, сокрытая в вещах;
Кошмары Божий перст рисует мне впотьмах,
Как знаки тайные на некоей скрижали.
Передуманное обретает в «Цветах Зла» особую полновесность тогда, когда предстает мучительно прожитым – действительностью пусть тягостной, но по-своему как бы обжитой душевно. Родство сущего и личности тут засвидетельствовано словно въяве самим строем метафорических оборотов, которые у Бодлера, в отличие от жестко односмысленного словоупотребления у других стихотворцев той поры, колышутся между предметным обозначением и отсылкой к настроению, иносказанием и прямосказанием; в таких случаях внешнее, созерцаемое как бы овнутрено, а внутреннее, испытываемое сейчас и здесь, – овнешнено:
Будь мудрой, Скорбь моя, и подчинись Терпенью.
Ты ищешь Сумрака? Уж вечер к нам идет.
Он город исподволь окутывает тенью,
Одним неся покой, другим – ярмо забот.
…………………………………………………
Ты видишь: с высоты, скользя меж облаками,
Усопшие Года склоняются над нами;
Вот Сожаление, Надежд увядших дочь.
Нам Солнце, уходя, роняет луч прощальный…
Подруга, слышишь ли, как шествует к нам Ночь,
С Востока волоча свой саван погребальный?
От терзаний подобных бесед наедине со своей сердечной болью Бодлер порой готов бежать «куда угодно, лишь бы прочь из этого мира». Затевая очередной такой побег в желанные заповедные дали, где «все – порядок и красота, роскошь, нега, покой» («Приглашение к путешествию»), он знает, впрочем, что уезжать за тридевять земель не обязательно, да и заведомо чревато горчайшими разочарованиями: «искателя бесконечного – в предельности морей» под любыми широтами ждут встречи с самим собой – «оазисом ужаса в песчаности тоски» («Плаванье»).
Зато поблизости, совсем рядом, как будто существует отдушина «нездешнего» – безбрежная вселенная грез, по истине волшебное инакобытие, где личность мнит себя – но для себя совершенно достоверно – вышедшей за пределы земного, спасшейся от здешней «юдоли», сподобившейся благодати. Бодлер далеко не первый во Франции строитель воз душных замков как прибежища измаявшихся умов. Но он, как и Нерваль, среди первых вкладывал в сновидчество смысл, приближающийся к откровению «благой вести». Для него греза знаменует собой прорыв в другое, спасительное измерение жизни. Ради этого он не страшится прибегать подчас к нездоровым возбудителям и воплощает ее в словесном «колдовании», когда разнопорядковые жизненные подробности могут податливо сопрягаться по законам чаемо го, а не действительного. В такие счастливые миги бодрствования-грезы он точно зрит «новое небо и новую землю» – более настоящие, чем само настоящее. «Земное, – готов он тогда заключить, – существует в весьма малой степени… Неподдельно действительное – в мечтаниях».
Бодлер же вместе с тем был одним из первых, кто извлек из приключений в стране чудесных грез горький урок для всех подобных мучеников миражей.
Так старый пешеход, ночующий в канаве,
Вперяется в Мечту всей силою зрачка.
Достаточно ему, чтоб Рай увидеть въяве,
Мигающей свечи на вышке чердака.
Урок тем более сокрушительный, что невыносимо скверное повседневье снова и снова распаляет жажду бегства у вернувшегося с пустыми руками из сказочного забытья, и тогда охотникам за несказанно-блаженной «инакостью» ничего не остается, кроме тупикового исхода, обозначенного под самый занавес «Цветов Зла»:
Смерть! Старый капитан! В дорогу! Ставь ветрило!
Нам скучен этот край! О Смерть, скорее в путь!
Пусть небо и вода – куда черней чернила,
Знай – тысячами солнц сияет наша грудь!
Обманутым пловцам раскрой свои глубины!
Мы жаждем, обозрев под солнцем все, что есть,
На дно твое нырнуть – Ад или Рай – едино! –
В неведомого глубь – чтоб новое обресть!
Есть, однако, у Бодлера в запасе помимо сновидений и еще один путь избавления от затерянности в дебрях собственной скорби – путь, на сей раз не уводящий от жизни, а, напротив, к ней приводящий. Он пролегает через мостовые парижских улиц и площадей, где на каждом шагу могут состояться встречи, позволяющие забыть о своей хандре, мысленно переселиться в чужую оболочку, дорисовав в во ображении участь случайного прохожего, чей облик почему-то вдруг выделился из толпы, запал в память («Рыжей нищенке», «Прохожей»). Так возникают в «Цветах Зла» городские зарисовки, в основном вынесенные в раздел «Парижские картины», но встречающиеся и в других частях книги (как «Вино мусорщика» или «Смерть бедняков»), – блистательное воплощение «духа современности» (modernité), которое Бодлер полагал одной из своих важнейших задач; оно действительно сделало его первооткрывателем лирики новейшей городской цивилизации.