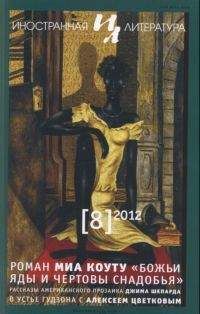Незримый рой. Заметки и очерки об отечественной литературе - Гандлевский Сергей Маркович
Эпоха не располагала к балагану. Несчастный политически осмотрительный Бабель вынужден был “пойти навстречу” носившимся в воздухе “пожеланиям трудящихся”: его Беня Крик – “Короля” и еще двух-трех первых “Одесских рассказов” (старший брат Бендера, судя по приблатненной элегантности и хищному шарму) – за считаные годы, ко времени написания киноповести “Беня Крик” (1926) и пьесы “Закат” (1928), деградировал как личность ровно настолько, чтобы революционная расправа над ним и его соратниками не казалась столь вопиющей, а палачи вызывали меньшее отвращение. Бабель как бы втолковывает себе, а заодно и нам, что с этим “пережитком прошлого” по‐хорошему нельзя. Чем сильнее крепчал террор, тем отрицательнее и мрачнее становились некогда опереточно-жизнерадостные и обаятельные герои-одесситы. Нравственно обезображенный до неузнаваемости Беня Крик одноименной киноповести существует будто после грехопадения, потому что автор его уже вкусил плодов с советского древа познания добра и зла. Бабелю, сказавшему: “Веселый человек всегда прав”, стало не до веселья. Он понуро поменял раблезианскую тональность одесского цикла на соцреалистическую. Социальный заказ победил художество. Перед нами не эстетика, а политика.
Остап Бендер и Гумберт Гумберт не заштатные преступники, а теоретики и идеологи порока, каждый своего. Им, гулливерам, просто невозможно в силу природной принадлежности к иной, более высокой “весовой категории” принять близко к сердцу заботы и энтузиазм лилипутского окружения. “Мне скучно строить социализм”, – жалуется Бендер. Мается и насмешничает Гумберт Гумберт, пока встреча с Лолитой не преображает на корню его вялую и ущербную жизнь. Но бесспорное духовное и умственное превосходство, пресыщенность знанием повадок и обычаев человеческой мелочи, обрекая на демоничное одиночество, в то же время делает их аферы до поры удачливыми, позволяет манипулировать встречными персонажами, “ходить” ими, как шахматными фигурами. Плоские мотивы поведения и реакции окружающих, их межеумочные речовки на все случаи жизни ясны нашим “разносторонним” героям как божий день и до зевоты предсказуемы. Пока длятся несколько тягостных минут молчания с глазу на глаз, Гумберт Гумберт свысока сочувствует простецу-мужу своей бывшей возлюбленной, “которому каким‐то ужасным, почти гипнотическим способом я мешал произнести единственное замечание, которое он мог придумать («Девчонка у вас первый сорт…»)”. Сходным образом “снимает” реплику с языка собеседника и Остап Бендер: “Бросьте, Адам! – сказал великий комбинатор. – Я знаю все, что вы намерены сделать. После псалма вы скажете: «Бог дал, бог и взял», потом: «Все под богом ходим», а потом еще что‐нибудь лишенное смысла, вроде: «Ему теперь все‐таки лучше, чем нам»”. Бендер признается мимоходом: “Я невропатолог, я психиатр. Я изучаю души своих пациентов. И мне почему‐то всегда попадаются очень глупые души”. Что‐то подобное мог бы сказать о себе и Гумберт Гумберт. Но оба демиурга в конце концов терпят поражение.
Проигрыш Гумберта Гумберта – крах в превосходной степени, поскольку герой выбрал “обособленный мир абсолютного зла”, схлестнулся с природой вещей, и, невзирая на сострадание, которое такой отщепенец может вызывать, мы воспринимаем его поражение как должное: свершилось то, чему свершиться надлежало. Трагический финал “Лолиты” не противоречит нашему метафизическому инстинкту. Примерно так человек смиряется со сменой дня и ночи, чередой времен года, возрастной, что называется “своей”, смертью – со всем непререкаемым, не зависящим от его воли. Гибель богоборца – зрелище торжественное и поучительное, оно и предстает в виду “черной вечности”. Но жизненная неудача Бендера ничего, кроме бессильной досады, вызвать не может, как явное и наглое торжество противоестественного отбора – сильный проиграл слабым. Этот герой уступает не миропорядку, а правопорядку, да еще и надуманному, сгодившемуся в “отдельно взятой стране”! Наученный советским жизненным и культурным опытом, читатель дилогии с тоской предчувствует недоброе – и его предчувствия сбываются: ихняя снова взяла… Спасибо еще, соавторы не унизили героя вконец и не поставили его “на путь исправления”. Гумберт Гумберт разбивается об онтологию, Бендер – о политэкономию: бедный Бендер!
В панике перед придвинувшейся пустотой оба маньяка было избавляются от своих маний, идут на попятную, чтобы попробовать жить по‐людски в высмеянном ими же рутинном обществе. Но сломленная в отрочестве Лолита и Зося Синицкая, любовью которой Бендер некогда пренебрег в погоне за богатством, уже примкнули к человеческому большинству и отказываются спасать: одна – своего губителя, другая – обидчика. Положение безвыходное, и героям не остается ничего другого, как совершить по последнему отчаянному преступлению – в последний раз пересечь границу: Остапу Бендеру – государственную, Гумберту Гумберту – нравственную.
И на протяжении обоих повествований – сперва Бендер, а через двадцать с лишним лет и Гумберт Гумберт – на разные лады взывают к присяжным заседателям. Ей-богу, кажется, будто Набоков, обычно предельно скрытный во всем, что касается его литературной “кухни”, из хулиганства распахнул на мгновение дверь в святая святых.
Счастливо сочетая в себе блестящие аналитические способности с огромным пластическим дарованием, удивительным образом “скрестив” алгебру с гармонией, Набоков взял “на стороне” и привил “Лолите” очень близкий себе по духу и во вкусовом отношении набор персонажей и ситуаций, но изменил заемный расклад сил, по‐своему расставил акценты, оделил собственным пафосом. Он и вменял себе в обязанность и заслугу “внимательно изучать творчество соперников” и “не только вновь перемешивать части данного мира, но и вновь создавать его”.
Вот как Гумберт Гумберт задабривает Лолиту: “Тут‐то я поднес свой сюрприз. <…> Она направилась к раскрытому чемодану, как будто подстерегая издали добычу, как будто в замедленном кинематографе, вглядываясь в эту далекую сокровищницу на багажных козлах <…> затем она подняла за рукавчики красивую, очень дорогую, медного шелка, кофточку, все так же медленно, все так же молча, расправив ее перед собой, как если бы была оцепеневшим ловцом, у которого занялось дыхание от вида невероятной птицы, растянутой им за концы пламенных крыльев. Затем стала вытаскивать (пока я стоял и ждал ее) медленную змею блестящего пояска и попробовала на себе. Затем она вкралась в ожидавшие ее объятия, сияющая, размякшая, ласкающая меня взглядом нежных, таинственных, порочных, равнодушных, сумеречных глаз – ни дать ни взять банальнейшая шлюшка”.
А вот так Остап Бендер приманивает свою жертву: “И Остап вынул из кармана маленькое позолоченное ситечко. <…> На Эллочку вещь произвела такое же неотразимое впечатление, какое производит старая банка из‐под консервов на людоеда Мумбо-Юмбо. В таких случаях людоед кричит полным голосом, Эллочка же тихо застонала: – Хо-хо! Не дав ей опомниться, Остап положил ситечко на стол, взял стул и <…> галантно раскланялся”. И оба героя, как видим, добились, чего хотели, – каждый своего.
А вот в каком интерьере живут несчастные питомицы “мещанской вульгарности”. Лолитина комната: “Реклама во всю страницу, вырванная ею из глянцевитого журнала, была приколота к стене над постелью, между мордой исполнителя задушевных песенок и длинными ресницами киноактрисы. <…> Под этой картинкой была другая – тоже цветная фотография. На ней известный драматург самозабвенно затягивался папиросой «Дромадер». Он, мол, всегда курил «дромки». <…> Ниже была Лолитина девственная постель, усеянная лубочными журнальчиками”. Теперь – жилплощадь Эллочки-людоедки: “Остап прошел в комнату, которая могла быть обставлена только существом с воображением дятла. На стенах висели кинооткрыточки, куколки и тамбовские гобелены”.
Если побороть огромную симпатию и сострадание к девочке, которые мастерски внушены нам Набоковым, и встать на точку зрения статистики, Лолита и Эллочка – одного поля ягоды, социально-психологические двойники. Даже такой параметр, как словарный запас, у них соизмерим и на редкость убог: у Лолиты, по подсчетам ее педагогов, он составляет двести сорок два слова, а у Эллочки – тридцать. Обе героини – простодушные и непритязательные выкормыши массовой культуры. Прелестная по молодости лет Лолита и ее более чем ординарная мать – две возрастные ипостаси одного и того же, на взгляд Гумберта Гумберта, характера. Остальное – дело писательского подхода и специфики дарования. Где у Ильфа и Петрова – окарикатуривание человека, у Набокова – очеловечивание карикатуры; а исходный человеческий материал вполне однороден.