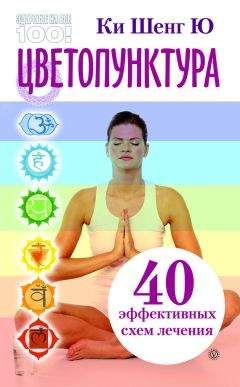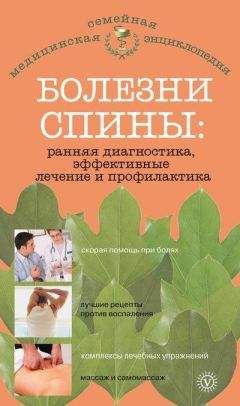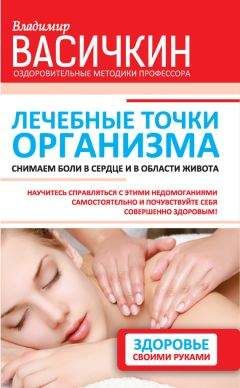Лидия Гинзбург - О психологической прозе. О литературном герое (сборник)
Наличие идеальной жизненной сферы порождало язык, отмеченный особым эстетическим качеством; его могла образовать только поэтическая традиция. Теперь язык литературы сближается, с одной стороны, с языком разговорной речи, с другой – с языком деловой речи, науки, публицистики, документа[321]. Реалистическая литература стремилась, таким образом, вступить с действительностью в нестилевой контакт.
Но сколько бы писатели второй половины XIX века ни толковали о научных методах, создавали они не науку, а искусство. Они творили значащую форму, единичную, неповторимую вещь, символически раскрывающую свои значения. Они творили без помощи заданного стиля, и эстетическое качество событий, персонажей, повествовательного слова всякий раз возникало из данной, созидаемой писателем структуры.
Литература второй половины XIX века ориентирована на науку не в том смысле, что научные методы заменили собой методы художественные, – это невозможно. Но в том смысле, что причинно-следственное объяснение явлений жизни стало эстетическим объектом. Предметом художественного изображения является теперь не только человек в обусловленности своего поведения, но и сама обусловленность, воплощенная, например, в соотношениях человека и среды, в социальных предпосылках становления характера.
Реализм XIX века – это поэтика индивидуализированных контекстов, непредрешенных и в этом смысле деформализованных, сюжетных событий, персонажей, наконец, непредрешенного слова как единицы этого художественного мира. Такова логика реализма.
2
Процесс освоения литературой свежего социального материала непрерывно взаимодействовал с процессом переработки этого материала традиционными формулами – сюжетными, характерологическими, словесными. Два эти начала выступали в различных соотношениях. Реализм XIX века принес качественно новую значимость социального материала, бурно прорвавшегося сквозь стилевые плотины.
В начале 1880-х годов Салтыков писал: «Мне скажут, быть может: но существует целый мир чисто психических и нравственных интересов, выделяющий бесконечное множество разнообразнейших типов… Но, во-первых, типы этого порядка с таким несравненным мастерством уже разработаны отцами литературы, что возвращаться к ним – значило бы только повторять зады. А во-вторых – и это главное, – попробуйте-ка в настоящую минуту заняться, например, воспроизведением „хвастунов“, „лжецов“, „лицемеров“, „мизантропов“ и т. д. – ведь та же самая улица в один голос возопит: об чем ты нам говоришь? Оставь старые погудки и ответь на те вопросы, которые затрогивают нас по существу: кто мы таковы? и отчего мы нравственно и материально оголтели?..
Но, сверх того, психологический мир… ведь и он сверху донизу изменил физиономию. Основные черты типов, конечно, остались, но к ним прилипло нечто совсем новое, прямо связанное со злобою дня. Появились дельцы, карьеристы, хищники и т. д.»[322]
На вопрос «улицы» – «кто мы таковы? и отчего мы нравственно и материально оголтели?» – сам Салтыков ответил необъятным множеством «собирательных типов», отразивших многообразие текущей социальной жизни[323]. Характерно, что этот небывало резкий, теоретически осознанный, новый контакт искусства с социумом осуществляется в очерковых, публицистических формах салтыковской сатиры; не в романе, гораздо прочнее сопряженном с традицией.
Даже в рассказе конфигурация действующих лиц не может иметь значения, подобного ее значению в романе. Поэтому в рассказе ослаблено и значение традиционных литературных ролей. Рассказ в этом смысле ближе к очерку; в особенности, конечно, рассказ без установки на фабулу. Недаром именно творчество Чехова является новой стадией русского послетолстовского реализма. Форма рассказа оказалась особенно адекватной для выполнения чеховских задач.
Этот поздний реализм ориентирует узнавание герой не на формы, уже прошедшие стилистическую обработку, – но на типологию, возникавшую в самой жизни, на те модели, которые служили целям социального общения и, в свою очередь, обладали своей непроизвольной эстетикой.
Без этой опоры на читательскую апперцепцию бытующих социальных ролей (врача, учителя, студента, помещика, чиновника) не могла бы осуществиться система Чехова с ее огромным охватом и небывало дробной, улавливающей частное дифференциацией текущих явлений[324]. Чехов отсылал читателя к житейским социальным представлениям и одновременно, как всякий большой писатель, активно строил эти представления, возвращая их общественному сознанию в качестве эстетического факта.
Подобный обмен совершался и между общественным сознанием и творчеством таких, например, писателей, как Тургенев, Гончаров, Писемский. Но в пределах классического русского реализма социальная материя оформлялась как тип, то есть одномерное, единонаправленное сочетание качеств персонажа, либо как характер – противоречивое, динамическое их соотношение. У Чехова обнажившаяся социальная материя прорывает границы типов и даже характеров.
Речь при этом идет о персонажах центральных, несущих в произведении основную тематическую нагрузку. Вообще к персонажам первого плана и к персонажам второстепенным, эпизодическим издавна применялись разные методы. В изображении второстепенных лиц писатель обычно традиционнее; он отстает от самого себя.
Так, в романтической прозе, наряду с романтическим героем, действуют нередко эпизодические персонажи, построенные еще по законам старого нравоописательного или сатирического романа. Другой пример: через романы Толстого проходит несметное множество эпизодических персонажей – помещики, мужики, солдаты, офицеры, участники дворянских выборов, посетители светских салонов и проч. и проч. Приводя в движение всю эту массу, Толстой, понятно, не мог изобразить каждое эпизодическое лицо в его противоречиях, текучести, неповторимости – словом, так, как он изображал Николеньку Иртеньева, Оленина, Пьера, князя Андрея, Левина, Нехлюдова. У Толстого персонажам не проблемным – не только массовым, но и таким, как старый князь Болконский или граф Илья Андреевич Ростов, – присуща еще дотолстовская типичность.
Все это применимо и к чеховской картине мира. Его проблемные герои – думающие, способные к самоосознанию, словом, те, за кем закрепилось название чеховских интеллигентов, – они именно как бы лишены характера. Не в том смысле, что они бесхарактерны (хотя налицо и это), но в том смысле, что составляющие их признаки не слагаются в индивидуальные конфигурации, которые так отчетливы у Толстого, несмотря на всю текучесть изображаемых им психических состояний. Толстой одновременно видит человека в его движении, изменяемости и в его резкой характерологической очерченности. Он все видит очень резко – человека с его стойкими качествами и мгновенно срабатывающую ситуацию, на которую человек реагирует неустойчиво, непредсказуемо. Чехов видит иначе, по-новому.
Какой, собственно, характер у Владимира Ивановича из «Рассказа неизвестного человека»? Определения его по преимуществу негативны – он безволен, его жизнь безрадостна и бесцельна.
В какой мере наделены неповторимым характером учитель словесности, Лаптев («Три года»), художник («Дом с мезонином»), Гуров («Дама с собачкой»), Михаил Полозов из повести «Моя жизнь»?
В разных вариантах это все тот же человек – неудовлетворенный, скучающий, страдающий, человек слабой воли, рефлектирующего ума и уязвленной совести. Это герои особой чеховской марки, и, создавая их, Чехов интересовался не индивидуальными характерами, но состояниями единого эпохального сознания.
Для изображения модификаций единого исторического сознания нужны были именно отдельные рассказы (не случайно срывались попытки Чехова написать роман) и в то же время поточность этих рассказов, слагающихся в общую картину мира, – иллюзия, в силу которой все написанное зрелым Чеховым воспринимается как одно, границ не имеющее произведение. Персонажи сменяют друг друга, а изображаемая жизнь переливается из рассказа в рассказ.
В свое время романтические герои также не обладали индивидуальным характером – каждый из них служил выражением эпохального сознания. Явление совсем другого порядка. Различие здесь не только в существе этого сознания, но и в самой структуре персонажа. Романтический герой был построением идеальным и обоснованным идеей избранности.
Чеховский герой – всегда обыкновенный человек, принципиально обыкновенный человек, во всей своей социальной обусловленности. А социальная обусловленность эпохи, изображенной Чеховым, неотделима уже от сугубой социальной дифференциации.
Русский классический реализм имел дело с большими социальными делениями сословного общества. Общество конца XIX века породило множество новых профессий и положений. Все более сложная, дробная иерархия устанавливалась и в разночинной среде. Отсюда и профессионализация литературного персонажа[325]. Сознание, изображенное Чеховым, предстает во множестве конкретных социальных воплощений.