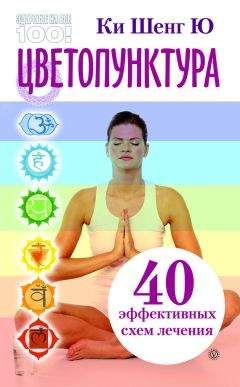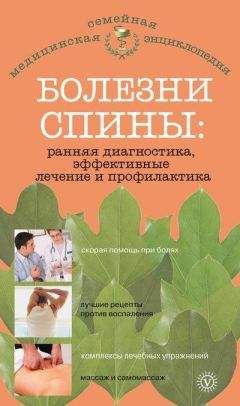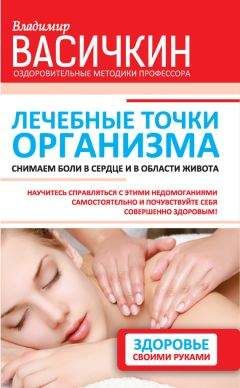Лидия Гинзбург - О психологической прозе. О литературном герое (сборник)
Роман «решает те же задачи и берет на себя те же обязательства, что и наука» – эта формулировка Гонкуров (в предисловии 1864 года к роману «Жермини Ласерте») стала хрестоматийной. В ней действительно с предельной отчетливостью выражена ориентация литературы середины XIX века на науку. Связи с естествознанием, историей, социологией, психологией интересуют писателей и критиков гораздо больше, чем споры о природе прекрасного, столь занимавшие эстетическую мысль XVIII и первой трети XIX века.
Литература объявляет своей задачей установление причинно-следственных связей, своим методом – наблюдение и т. п. Очевидно, однако, что научные методы не могли быть методами искусства, которое во всех своих разновидностях всегда оставалось выражением общего через единичное. В сущности, речь шла не о подмене художественных методов научными, но о том, что реалистическая литература, создавая свои миры, избегала расхождений с современными ей научными представлениями о действительности.
«…Реальность, – пишет по этому поводу Р. Веллек, – очевидно, понимается в эту эпоху – невзирая на местные и личные различия – как упорядоченный мир науки девятнадцатого века, мир причин и следствий, мир без чудес, без потустороннего, даже в том случае, если человек сохранил личную религиозность»[318].
Представление о законосообразном посюстороннем мире приспосабливалось к разным позициям – философским, эстетическим, политическим. В русской литературе, например, это и гегельянская диалектика Герцена, и шопенгауэрианство Тургенева, и напряженная моралистичность Толстого. Эстетические доктрины реализма XIX века уживались с естественно-научным материализмом, с позитивизмом, позитивистским субъективным идеализмом. Последним проникнуты известные высказывания Мопассана: «…Каждый из нас носит свою собственную реальность в своей мысли и в органах чувств! Различие нашего зрения, слуха, обоняния, вкуса создает столько истин, сколько людей на земле… Итак, каждый из нас просто создает себе ту или иную иллюзию о мире, иллюзию поэтическую, сентиментальную, радостную, меланхолическую, грязную или зловещую, в зависимости от своей натуры. И у писателя нет другого назначения, кроме того, чтобы точно воспроизводить эту иллюзию всеми художественными приемами, которые он постиг и которыми располагает».
Мопассановское эссе «О романе» (предисловие 1887 года к роману «Пьер и Жан») – убедительное свидетельство связи позднего реализма XIX века с импрессионизмом.
Реализм XIX века принес разнообразные плоды. Он вместил и бесстрастный физиологизм, и русскую натуральную школу с ее антикрепостническим пафосом, и объективного Флобера, и дидактического Троллопа, утверждавшего, что литература должна поучать. Писателей этого направления объединяла общая для них ориентация на проверенные современным мышлением жизненные закономерности.
Позволяет ли это утверждать, что действительность реализма – это монистически понимаемая действительность? Веллек заметил, что это мир «без потустороннего, даже в том случае, если человек сохранил личную религиозность». Это существенная оговорка. Позитивизм (а позитивизм был господствующим воззрением в буржуазной культуре XIX века), позитивистский агностицизм оставлял открытым вопрос о существовании потустороннего. Корифей позитивной философии Спенсер различал познаваемое, доступное разуму и чувствам, и непознаваемое, сущность вещей, куда могут проникнуть только вера и интуиция.
В литературе это, казалось бы, открывало дорогу дуалистическому изображению человека. Но здесь мы имеем дело с концепцией, принципиально отличающейся, скажем, от романтического дуализма. Мир романтизма – это мир, в котором эмпирическая действительность не только противостоит абсолюту, но и непрерывно с ним соотносится. Духовная жизнь конечного человека определяется его стремлением к бесконечному. Бесконечное недостижимо, непостижимо, но оно присутствует и изменяет ход вещей. Для позитивистского сознания все обстоит иначе. Непознаваемое, навсегда недоступная «вещь в себе» не вмешивается в порядок, установившийся в трехмерном мире. Эмпирическое существует только по своим законам.
Эти тенденции мышления второй половины XIX века (восходящие к Канту и Шопенгауэру) в известной мере были действительны и для Толстого. В «Войне и мире» Толстой теоретически различает в человеке разум, подвластный категориям причинности и необходимости, и «сознание» – сферу иррациональную, интуитивную, где человек постигает свою свободу. В напряженнейшие моменты жизни герои Толстого осознанно приобщаются к ценностям этой сферы – раненый князь Андрей, Каренин у постели больной Анны и т. д. Но эти прорывы в иррациональную сферу свободы Толстой изображает как определенные психические состояния, которые могут быть описаны на языке эмпирических закономерностей.
«Алексей Александрович, увидав слезы Вронского, почувствовал прилив того душевного расстройства, которое производил в нем вид страданий других людей, и, отворачивая лицо, он, не дослушав его слов, поспешно пошел к двери…
…Душевное расстройство Алексея Александровича все усиливалось и дошло теперь до такой степени, что он уже перестал бороться с ним; он вдруг почувствовал, что то, что он считал душевным расстройством, было, напротив, блаженное состояние души, давшее ему вдруг новое, никогда не испытанное им счастье. Он не думал, что тот христианский закон, которому он всю жизнь свою хотел следовать, предписывал ему прощать и любить своих врагов; но радостное чувство любви и прощения к врагам наполняло его душу. Он стоял на коленах и, положив голову на сгиб ее руки, которая жгла его огнем через кофту, рыдал, как ребенок». Открытие «христианского закона», скрещиваясь с «душевным расстройством», также становится фактом посюсторонней душевной жизни. Оно имеет для Толстого свой высший иррациональный смысл, но в то же время как психологический процесс не выпадает из эмпирического ряда.
А вот изображение психических состояний, сопровождающее рассказ о предсмертном духовном просветлении Болконского: «Душа его была не в нормальном состоянии. Здоровый человек обыкновенно мыслит, ощущает и вспоминает одновременно о бесчисленном количестве предметов, но имеет власть и силу, избрав один ряд мыслей или явлений, на этом ряде явлений остановить все свое внимание. Здоровый человек в минуту глубочайшего размышления отрывается, чтобы сказать учтивое слово вошедшему человеку, и опять возвращается к своим мыслям. Душа же князя Андрея была не в нормальном состоянии в этом отношении. Все силы его души были деятельнее, яснее, чем когда-нибудь, но они действовали вне его воли. Самые разнообразные мысли и представления одновременно владели им. Иногда мысль его вдруг начинала работать, и с такою силой, ясностью и глубиною, с какою никогда она не была в силах действовать в здоровом состоянии; но вдруг, посредине своей работы, она обрывалась, заменялась каким-нибудь неожиданным представлением, и не было сил возвратиться к ней».
Это характернейшее толстовское объяснение, хотя прилагается оно здесь к особому душевному опыту, – речь идет о том, что Болконский открыл для себя «то чувство любви, которая есть самая сущность души и для которой не нужно предмета». Любой душевный опыт, даже иррациональный, предстает в своих причинно-следственных связях[319].
В этом смысле созидаемый реализмом XIX века мир – монистичен. Он не располагается по ступеням рационалистической иерархии, он не разорван на сферы – идеальную и эмпирическую, высшую и низшую, – подобно миру романтизма. Это единое, хотя и противоречивое целое.
Так в силу внутренней логики миропонимания возникают два важнейших признака реалистических методов: неизбирательность, то есть безграничный (в принципе) охват явлений действительности, и своеобразная реалистическая сублимация, то есть возможность превращения любых явлений действительности в социально-моральные и эстетические ценности[320]. Это и было принципиальным открытием литературы XIX века; тогда как ее разоблачительное, сатирическое начало опиралось на многовековой литературный опыт и, в частности, на хронологически близкую нравоописательную традицию XVIII века.
Представление о единой, управляемой общими законами действительности перестроило всю систему выразительных средств литературы. Упразднены были теоретические, философские основы разделения поэтических стилей на высокие и низкие, в какой бы форме оно ни выражалось – рационалистической или романтической. Потеряв свое философское оправдание, возвышенная поэтическая речь воспринималась теперь как высокопарная. Искусство, чьим методом провозглашено было исследование, наблюдение, документация, не могло больше строиться на противопоставлении и взаимодействии идеального и реального (одна из основных проблем немецкой классической эстетики).