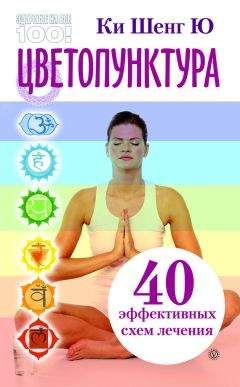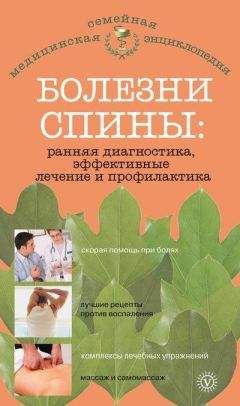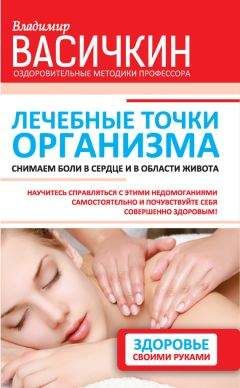Лидия Гинзбург - О психологической прозе. О литературном герое (сборник)
«Мало-помалу он окунулся в московскую жизнь, уже с жадностью прочитывал по три газеты в день и говорил, что не читает московских газет из принципа. Его уже тянуло в рестораны, клубы, на званые обеды, юбилеи, и уже ему было лестно, что у него бывают известные адвокаты и артисты и что в докторском клубе он играет в карты с профессором. Уже он мог съесть целую порцию селянки на сковородке…» И дальше: «Что за бестолковые ночи, какие неинтересные, незаметные дни! Неистовая игра в карты, обжорство, пьянство, постоянные разговоры все об одном. Ненужные дела и разговоры все об одном отхватывают на свою долю лучшую часть времени, лучшие силы, и в конце концов остается какая-то куцая, бескрылая жизнь, какая-то чепуха, и уйти и бежать нельзя, точно сидишь в сумасшедшем доме или в арестантских ротах!»
Так в рассказе «По делам службы» выстраивается своеобразная иерархия иллюзий. Для мужиков несчастный страховой агент (из разорившихся помещиков) все же барин, как-то причастный к недоступной им господской жизни. Страховой агент, вероятно, позавидовал бы бывшему московскому студенту Лыжину, с его надеждами на будущую московскую карьеру. К семейству Тауницев у молодого следователя двойственное отношение – сейчас Тауницы пребывают на более высоком уровне, но в дальнейшем он надеется их обогнать.
Но читатель Чехова знает, что московские вожделения Лыжина – в этом ряду только последняя из иллюзий.
Высшие же ценности для Чехова там, где начинается чеховская утопия будущей жизни, прекрасной, гармонической, исполненной любви к человеку. Утопия потому, что Чехов никогда не мог определить ни реальные формы этой жизни, ни способы, какими она может быть достигнута. Но в контексте его творчества лжеблагополучная Москва 1880–1890-х годов противостоит символической Москве трех сестер, которые под занавес говорят о своих страданиях и о том, что «счастье и мир настанут на земле».
Высший уровень в чеховской иерархии ценностей не подлежал практической проверке.
Творчество Чехова – великое завершение традиций XIX века, прорастающее открытиями нового. XX век, на пороге которого Чехов умер, принес сложную соотнесенность реалистической традиции с теми тенденциями, которые, при всей их разнородности, принято суммарно обозначать неудобным термином модернизм. Неудобен он и своей двусмысленностью (модернизм – в применении к явлениям столетней уже давности), и разнородностью направлений, которые этим термином покрывают. Разнородны они нередко не по второстепенным признакам, но по самым основам понимания мира, – от русских символистов, например, с их трансцендентностью и «реальнейшими реалиями», и до литературы, объявившей мир и человека абсурдом. За неимением другого приходится, однако, пользоваться этим термином, суммирующим общие тенденции, все же улавливаемые в разноголосице литературных направлений XX века и зародившиеся еще в девятнадцатом.
Реалистическое движение XIX века не было ни всеохватывающим, ни однолинейным. Наряду с ним в XIX веке существовали другие силы. Существовала поэзия. Поэзия XIX века испытала мощное воздействие реализма. И все же реализм – по преимуществу мир прозы, потому что поэзия не может быть искусством объясняющим, аналитическим и ищущим обусловленность вещей. В поэзии и в прозе черты модернизма сложились в XIX веке рядом с крепнущим реализмом, и сложились очень рано – к 1850-м годам относится, например, уже зрелое творчество Бодлера, к 1870-м – расцвет французского символизма.
Модернистам разного толка присущ был максимализм в решении экзистенциальных вопросов и, соответственно, максимализм эстетический – резкая ощутимость средств выражения, раскрепощение их от всевозможных норм и запретов. Это вело к культу новаторства, к отказу от традиций и попыткам их разрушения. А в то же время эстетизм XX века возвращал искусству традицию, но с другого хода – через стилизацию.
Деформализованная реализмом XIX века литература снова формализуется (особенно поэзия). Ее населяет множество символических масок, условных фигур, наделенных готовым значением. Их поставляли Средневековье (рыцарская тема), XVII и XVIII века, Античность, Восток, народная комедия (арлекинада), в России – русский ампир и проч.
Эти ролевые маски предстали не в своем первичном культурно-историческом качестве; стилизация антиисторична, и она оперировала ими как отчужденными формами для новых содержаний. Они предназначены были преображать, окрашивать новый поэтический материал своей готовой и традиционной символикой.
Литература отвергала теперь традицию как норму и принимала ее как стилизацию или как власть отдельных писателей прошлого, избранных, иногда причудливо сочетаемых. Притом на практике модернисты не могли уйти от другого наследия – от опыта литературы XIX века.
В искусстве большие открытия не бывают исключительным достоянием времени, их породившего. Опыт победоносного литературного направления продолжает жить в направлениях, пришедших ему на смену, если даже писатели в поисках самоутверждения отрицают и осуждают то, что им предшествовало. Открытия реализма XIX века с чрезвычайной интенсивностью, вплоть до наших дней, работают на литературу XX века, в том числе и на самую авангардистскую.
Не следует, однако, смешивать явления разного порядка. Речь тут идет уже не о реализме как целостной системе понимания и изображения жизни, но о реалистическом опыте, который мог быть использован совсем другими системами – символизмом, например.
Анна Ахматова рассказывает, как в разговоре с Блоком она «между прочим упомянула, что поэт Бенедикт Лифшиц жалуется на то, что он, Блок, „одним своим существованием мешает ему писать стихи“. Блок не засмеялся, а ответил вполне серьезно: „Я понимаю это. Мне мешает писать Лев Толстой“»[334].
Человечество прошло через реализм XIX века и вынесло неотменяемые уроки. Следы их можно обнаружить в творениях XX века, иногда даже самых причудливых. В некоторых же литературных системах эпохи черты эти приобретают решающее, конструктивное значение.
Но здесь-то и начинается другая аберрация – аберрация механического, часто по внешним, не решающим признакам, разделения писателей XX века на модернистов и реалистов. Иногда творчество отдельного писателя столь же механически расчленялось на реалистические и нереалистические элементы. Между тем подобная мозаика невозможна там, где идет речь о воплощенном понимании мира.
Писатель испытывал давление своего времени, но он же не мог забыть то, чему люди научились в XIX веке. Нельзя разобраться в этих соотношениях, не установив, какие именно признаки являются конструктивными при определении данным писателем, данным литературным направлением самого принципа познания мира и человека.
Модернизм, например, вовсе не обязательно (хотя и часто) сопровождается смещением, внешней деформацией действительности. Будничная речь, изображение повседневного отнюдь не является исключительной принадлежностью реализма.
В предисловии к «Пеплу» (1909) Андрей Белый писал: «Жемчужная заря не выше кабака, потому что и то и другое в художественном изображении – символы некоей реальности…» Для Белого дело не в лексической характеристике слова как таковой, а в его художественной функции. Некрасовские, реалистические атрибуты деревенского бытия в системе Андрея Белого стали знаками символистических значений[335].
Изображение повседневного, повествовательная манера, натуралистически характерная или логически ясная, сами по себе еще не свидетельствуют о принципе познания мира. Отыскивая эти принципы, надо проникнуть дальше, в глубину.
Один из самых основных – это обусловленность, управляющая поведением человека, определяющая подбор его ценностей. Социально-исторический и биологический детерминизм литературы XIX века – решающая в ее системе предпосылка изображения человека. Система эта имела множество творческих вариантов, но предпосылка оставалась в силе.
Отказ от нее, от детерминизма, такого, каким его породил XIX век, – самый глубинный признак отхода от его реалистической традиции, более существенный, чем признаки чисто стилистические или предметные. Вот почему там, где не изжит детерминизм, можно говорить в той или иной мере о сохранении традиций классического реализма. Так, например, у Пруста. При всей остроте своих писательских открытий (они ошеломили современников), Пруст, с его напряженным интересом к социальной фактуре персонажа, с его расчленяющим и объясняющим психологизмом, был завершителем линии аналитического, социально-психологического романа. И напротив того, там, где социально-историческая обусловленность вытеснена иными – вневременными, неисторическими, сверхчувственными – мотивировками поведения, там прерывается непосредственная традиция реализма XIX века[336]. Хотя и не снимается неотменяемое значение его опыта.