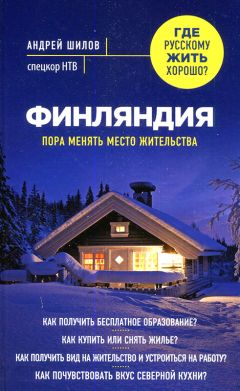Марина Могильнер - Изобретение империи: языки и практики
Подобно Саиду, Трубецкой не просто критиковал европейскую цивилизацию за ее колониальные завоевания. Он видел в европейской эволюционистской науке с ее стадиальными принципами средство идеологического контроля:
...Момент оценки должен быть раз навсегда изгнан из этнологии и истории культуры, как и вообще из всех эволюционных наук, ибо оценка всегда основана на эгоцентризме. Нет высших и низших. Есть только похожие и непохожие. Объявлять похожих на нас высшими, а непохожих – низшими, – произвольно, ненаучно, наивно, наконец, просто глупо. Только вполне преодолев этот глубоко вкоренившийся эгоцентрический предрассудок и изгнав его последствия из самих методов и выводов, до сих пор строившихся на нем, европейские эволюционные науки, в частности этнология, антропология и история культуры, станут настоящими научными дисциплинами. До тех пор они являются в лучшем случае средством морочить людей и оправдывать перед глазами романо-германцев и их приспешников империалистическую колониальную политику и вандалистическое культуртрегерство «великих держав» – Европы и Америки [790] .
Можно с большой долей уверенности предположить, что эта критика эволюционистской модели в этнологии была связана у Трубецкого с унаследованным им интересом к народам Российской империи (в рецензии на книгу Трубецкого Савицкий утверждал, что все ее примеры прежде всего относятся к России). Необходимо, вероятно, отдельное исследование, для того чтобы установить, в какой мере комбинация народничества и марксизма, исповедовавшаяся многими этнографами поздней императорской России, могла быть источником такой критики ориентализма [791] . Трубецкой, автор многочисленных статей по кавказским и финно-угорским языкам и фольклору и большой неопубликованной записки о кавказских народах, очевидно, стремился к преодолению ориенталистской дистанции между русскими и другими народами России, поскольку такая дистанция, порожденная модерновыми практиками, подрывала единство империи.
История развития этого модернового дистанцирования от «Востока» стала предметом изучения совсем недавно, несмотря на то что историки и литературоведы отмечали неоднозначное отношение российских интеллектуалов к Востоку. Давно известно, что для Владимира Соловьева «желтая угроза» была одним из важнейших лейтмотивов творчества, а Достоевский утверждал, что именно на Востоке лежит историческое призвание России («в Азию мы придем как господа…») [792] . «Восточничество» как комплекс представлений об особой миссии России на Востоке сыграло определенную роль не только в управлении «внутренним востоком» Российской империи, но и в развязывании Русско-японской войны 1904–1905 годов [793] . В связи с вторжением постколониальных исследований в историю русской литературы появились новые работы о взглядах русских на Кавказ и Среднюю Азию в XIX веке [794] .
В последние годы историки также стали активно обсуждать особенности восприятия Востока российскими учеными и бюрократами, примеряя на опыт Российской империи теоретические рамки концепции ориентализма Эдуарда Саида [795] . Несмотря на то что Саид упоминал Россию в ряду тех западных стран, которые участвовали в ориенталистском проекте, взгляды специалистов-историков на ориентализм в России разделились. По мнению одних (Адиб Халид), ориентализм в России мало чем отличался от ориентализма в других европейских странах, тогда как Натаниэль Найт, исследуя деятельность Григорьева в Оренбурге, отмечал, что в России, где границы между Азией и Европой были размыты, восприятие азиатских народов русскими интеллектуалами вовсе не было однозначным [796] . Преодолевая ограниченность дискуссии, не учитывающей специфические отношения между нормативной модерностью и российским историческим опытом, многие исследователи (Герасимов, Схиммельпеннинк ван дер Ойе, Эткинд) обращали внимание и на тот факт, что Россия выступала и как объект, и как субъект ориентализма, причем вестернизированная элита Российской империи воспринимала собственное крестьянство как «внутренний Восток», объект просветительской деятельности и управленческих стратегий [797] . В контексте этих дискуссий особенное значение приобретает феномен евразийской идеологии, которая не просто солидаризировалась, от имени «российского мира», с народами Азии и Африки, но и обрушилась с критикой на колониализм Европы.
Исследователи уже отмечали компенсаторную роль евразийской критики колониализма и стремления включить азиатские народы в единое евразийское пространство, спасти империю путем ее отрицания. Большинство евразийцев было прекрасно осведомлено о той роли, которую национальные окраины сыграли в революции и Гражданской войне. Эта роль и большевистский проект федерализации заставляли многих в эмиграции задумываться о том, каким образом возможно сохранение целостности бывшей Российской империи. Более того, некоторые евразийцы, такие как Савицкий, интересовались проблемами соотношения национализма и империи еще до революции, к чему их склоняли как происхождение (Савицкий, Сувчинский и Флоровский были родом с Украины), так и влияние (в частности, на Савицкого) П.Б. Струве с его проектами имперского национализма [798] .
Поэтому не вызывает удивления тот факт, что в своей рецензии на книгу Трубецкого Савицкий объявил, что «противоположение это [Европы и России] питается и в идеологическом, и в милитарном отношении силами не одной этнографической России, но целого круга примыкающих к ней… народов. Силы этих народов частично способствовали созданию Российской мощи и культуры, они действуют и в явлении большевизма… между тем, в явлении этом, несмотря на его отвратительное и дикое лицо, – несомненно заложены элементы протеста некоторого не-романо-германского мира против романо-германского культурного и иного „ига“» [799] . Савицкий считал, что «близость [этих народов] России иллюстрирует факт отсутствия определенных естественных границ между Евразией и Азией…» [800] .
Очевидно, Савицкий предполагал, что его могут обвинить в непоследовательности и проповеди российского империализма взамен колониализма европейского:
...Не будет ли это вовлечение заменой романо-германского ига на российское (для азиатов)? Жизнь жестока; и на слабейших народах Евразии может тяготеть российское иго, однохарактерное игу романо-германскому. Но в отношении народов, имеющих культурную потенцию, – важнейшим фактом, характеризующим национальные условия Евразии, – является факт иного конструирования отношений между российской нацией и другими нациями Евразии, чем то, которое имеет место в областях, вовлеченных в сферу европейской колониальной политики… Евразия есть область некоторого равноправия и некоторого братания наций – не имеющего никаких аналогий в междунациональных соотношениях колониальных империй. И евразийскую культуру можно представить себе в виде культуры, являющейся, в той или иной степени, общим созданием и общим достоянием народов Евразии [801] .
Таким образом, отрицая колониализм Европы и провозглашая существование особых культурных миров, евразийцы позаботились и о том, чтобы сконструировать пространство бывшей Российской империи, избегая противоречий между единым – империей – и населяющими ее народами. Такая попытка сгладить противоречия, возникающие между империей и модерными национализмами, вполне возможно, была связана с общей критикой евразийцами предреволюционного периода. Разумеется, сложно говорить о развитом колониальном дискурсе в николаевской России, но в контексте европейской «нормализации» думского периода предпринимались попытки вычленить «национальное» ядро в Российской империи и четко определить статус владений на Кавказе и в Азии как колоний [802] . Идеи евразийства полностью перечеркивали возможность выделения «этнографической России» из Российской империи и стремились утвердить неделимость культурного, политического и экономического пространства империи.
Генеалогия ареальной мысли
Разумеется, Трубецкой не был одинок в своем утверждении культурных ареалов, защите равенства культур и убежденности в том, что европейские заимствования вредны. Идея культурно-исторической изолированности, существования цивилизаций, определяющих историческую и культурную судьбу входящих в них народов, появляется в Европе в контексте осознания своего отличия от мира ислама [803] . Но это различие концептуализируется не в культурных, а в конфессиональных терминах, присущих домодерновым обществам. В Новое время европейцы, благодаря путешествиям и развитию картографии, начинают придавать культурным различиям все большее значение, конструируя цивилизационные особенности тех или иных регионов [804] . Идея цивилизации как культурно замкнутого пространства получает мощный импульс, когда Просвещение дает европейцам осознание собственного прогресса, вступая таким образом в противоречие с заложенными в самом проекте Просвещении принципами универсальных законов человеческих обществ [805] . Родившийся как реакция на Просвещение романтический дискурс апроприировал идею особой культуры, атаковав с ее помощью универсализм рационального европейского гуманизма. Романтики, проповедовавшие, говоря словами Артура Лавджоя, принцип «диверсификационизма», ценили скорее различия между культурами, нежели универсальные категории рационального разума [806] . Они спорили о специфическом народном духе, об исторических народах, связывая рождающийся немецкий национализм с историческим нарративом Европы, проходящим от Античности, через Средневековье, к Реформации и Возрождению. Поэтому пангерманизм был двусмысленным конструктом, объединяя идею Deutschtum с европейской цивилизацией и немецкой нацией одновременно. В дискурсе немецких романтиков ключевую роль играли темы родства, которые организовывали пространство согласно генетически установленным признакам. В романтических описаниях органическая метафора, в которой народ, нация или государство виделись прежде всего сквозь призму биологических аналогий, была центральной, а поскольку неизменяемость видов и невозможность скрещивания была аксиоматичной, эти взгляды зачастую переносились и на культуры. Славянофилы в России, следуя примеру немецких романтиков, говорили о национальной особенности славянского мира. Подобно пангерманизму, славянофильство было двусмысленной конструкцией, предполагавшей некое единство славянского мира – культурное прежде всего, – но которое подрывало географическую, культурную и языковую целостность Российской империи [807] .