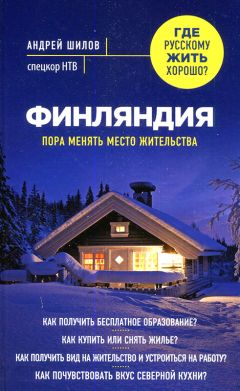Марина Могильнер - Изобретение империи: языки и практики
Одной из первых мер по усилению контроля было постановление ЦК ВКП(б) «О состоянии и работе Бурят-Монгольской партийной организации», принятое 27 мая 1929 года. В нем подчеркивалось, что «культурное строительство Бурят-Монгольской республики все еще находится в неудовлетворительном состоянии» [756] . Центральный Комитет потребовал решительных мер против усилившихся, по его мнению, «проявлений великодержавного шовинизма, панмонголизма и бурятского национализма» [757] . Для изживания негативных, по мнению коммунистов, тенденций в культурном строительстве «Постановление» считало необходимым активное привлечение к этому процессу «естественных» сторонников советской власти из «социально близких» слоев и призывало взять, «наряду с использованием старой лояльно настроенной интеллигенции, твердый курс на выращивание новых кадров бурятской интеллигенции из рабочих, батраков и лучшей части середняков» [758] . Также предписывалось «усилить выдвижение на руководящую работу и в средние звенья аппарата бурят-монголов… рабочих, батраков и бедняков, организовав их специальную подготовку и переподготовку » [759] .
В ноябре 1930 года состоялось республиканское партийное совещание по вопросам культурного строительства. На этом совещании была полностью осуждена принятая ранее установка в области языкового строительства, по которой в основу нового бурятского литературного языка было положено халха-монгольское наречие [760] . Подверглась критике попытка использовать некоторые элементы буддизма для развития национальной культуры [761] . Совещание квалифицировало деятелей интеллигенции, выдвинувших тезисы о языковом единстве бурят и монголов и об использовании элементов религиозной традиции в бурятской культуре, как «носителей идеологии правого оппортунизма, местного национализма и контрреволюционного панмонголизма» [762] . Бурятские коммунисты подчеркивали: «Вопросы культурного строительства не могут быть уложены в узкие рамки „просветительных учреждений“», – они должны стать «органической частью работы всех партийных, советских, профсоюзных, хозяйственных, комсомольских и др. общественных организаций» [763] .
Таким образом, развитие бурятской культуры было полностью отдано в руки партийных структур и поставлено под их идеологический контроль. Соответственно, политика культурного строительства, разработанная бурятской интеллигенцией, подверглась обструкции, а возобладала точка зрения коммунистов, которые с этого времени начали форсировать процесс «культурно-национального строительства» по своему сценарию. При этом они отвергали в качестве базиса для такого строительства традиционную культуру и при конструировании «бурятской социалистической нации» в большей степени ориентировались на идеологические ценности революционной классовой теории, преследуя цели «создания новой социальной коллективности (нации) и политического субъекта (советского гражданина, потенциального участника мировой революции)» [764] .
Таким образом, во второй половине 1920-х годов происходил интенсивный процесс нациестроительства в Бурятии, причем сотрудничество или соперничество двух разных версий национального проекта – проекта старой интеллигенции и проекта местных большевиков – определяло то, каким образом и в какой сфере (языковой, культурной или политической) выстраивались границы будущей нации. Будучи вытесненной из политической и экономической сфер, где большевистское руководство не было готово уступить решающий голос, старая интеллигенция обратила свои взгляды на культурное строительство будущей нации, подчеркивая этническую составляющую. Здесь имело огромное значение и то, каким образом центр оценивал значимость различных аспектов нациестроительства, налагая на местные проекты свои ограничения или, напротив, спонсируя важные для реализации общесоветских идеологических целей элементы. В заключение можно отметить, что до полной перекройки национальной политики в сталинском СССР местные элиты играли весьма значительную роль в конструировании границ советских наций и советской системы национальных автономий в целом.
Сергей Глебов Границы империи как границы модерна: антиколониальная риторика и теория культурных типов в евразийстве
Введение: эмиграция – alter locus
На протяжении всего советского периода история эмиграции не привлекала практически никакого внимания – в СССР этому не способствовали идеологические условия, а на Западе, за исключением единичных профессиональных работ историков, советская концепция «краха антисоветской белоэмиграции» трансформировалась в представление о том, что эмигранты из бывшей Российской империи – представители безвозвратно ушедшего мира, атавизм истории, не представляющий значительного интереса для историков [765] . Парадоксальным образом, огромное количество работ было написано об отдельных эмигрантах – таких знаменитостях, как Набоков или Стравинский, – но не об эмиграции. Ситуацию не изменили даже возникшая в период крушения колониальных империй мода на исследования миграций и диаспор и традиционный интерес к теме изгнания, который всегда проявляли интеллектуалы: ни в постсоветской России, ни за рубежом не появилось культурной или социальной истории эмиграции как особой области исследований [766] . С крушением советского режима в России увидело свет необозримое количество публикаций, но, несмотря на большую работу по введению в оборот новых источников, пока рано говорить об их эвристической ценности и существенных концептуальных инновациях [767] . В немногих работах западных историков, посвященных российской эмиграции, речь обычно идет либо об истории культуры – в традиционном понимании «высокой культуры», либо о последних годах жизни известных персонажей предреволюционной российской истории. Таким образом, исследования эмиграции ограничиваются областью «классической» культурной и политической истории [768] .
В то же время история эмиграции 1920-1930-х годов представляет собой любопытную модель «альтернативной лаборатории», в которой представители образованных классов бывшей Российской империи конструировали прошлое и будущее России, причем, в отличие от интеллектуалов в Советской России, они обладали возможностью напрямую транслировать опыт и ощущения европейской модерности в кризисный межвоенный период в свои тексты о российской истории и политике [769] . Именно в эмиграции сформировался русский фашизм, а культурный фермент модернизма конца XIX – начала XX века находился вне рамок Советского государства и большевистской идеологии. Самопровозглашенная цель российской пореволюционной эмиграции – Заграничной России, как ее назвал Б.Э. Нольде, – состоявшая, как виделось многим эмигрантам, в сохранении и возвращении «национальной» традиции в освобожденную от большевиков Россию [770] , так и не была выполнена (никакой более или менее значительной инкорпорации эмигрантского наследия в академическую науку, за немногими исключениями, не произошло) [771] . Однако именно в эмиграции были начаты проекты по осмыслению истоков революции, хода Гражданской войны или возможности существования многонациональной империи.
Учитывая традиционное внимание, которое политические эмигранты уделяют происходящему на своей родине, нужно отметить уникальность точки зрения эмигрантов, поскольку, как отмечал Георг Зиммель, странник живет как бы в двух измерениях – в реальном мире изгнания и воображаемом мире своего отечества. Унаследованные из прошлого традиции преломляются в ситуации «смещения» (displacement) и конструируют образы будущего; время, которое с неумолимостью сокращает культурный рынок эмигрантского общества, способствует все большей его ассимиляции в принимающие общества. Политика идентичности эмигранта связана с определением своего места в принимающем обществе и выстраиванием границ «своего» в реальном мире, но это выстраивание зависит от того, как определяется воображаемое отечество.
Критика колониализма и спасение империи
Одним из ярких примеров такого выстраивания границ, в котором «смещались» обозначающее и обозначаемое, было евразийское движение, объявившее Россию особой, неевропейской цивилизацией, стремясь исключить ее, таким образом, из сферы европейской модерности. Представители евразийского движения подчеркивали свое отличие как от традиций, сформировавшихся в дореволюционный период (таких, как либерализм, народничество или монархизм), так и от современных им европейских параллелей (например, фашизма). Появившись в контексте интеграционалистских и фашистских движений в межвоенной Европе, проблематика евразийства выходит за пределы этих неоромантических идеологий [772] . Одним из элементов евразийской доктрины, которые выглядят наиболее оригинально на фоне европейских параллелей евразийства, является критика колониализма и обьявление России колониальной страной, лидером неевропейских народов, выступивших после Первой мировой войны на мировую арену [773] . В российской традиции евразийцы были первыми, кто однозначно считал азиатскую составляющую российской культуры и государственности неотъемлемым элементом истории России [774] . Каким же образом и почему произошел такой своеобразный интеллектуальный переворот, позволивший представителям российской культурной элиты в изгнании ассоциировать себя с колониальным миром?