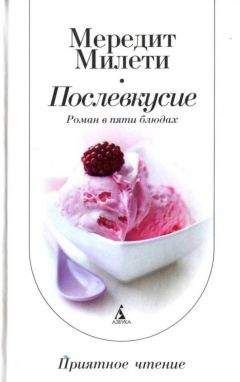Ричард Бокэм - Иисус глазами очевидцев Первые дни христианства: живые голоса свидетелей
Виарда верно отмечает, что возражения, связанные как с социологической картиной античного средиземноморского общества, ориентированного на коллектив, так и с литературоведческим мнением, что античная литература знала лишь типы, но не индивидуальные характеры, несостоятельны[435]. На первое возражение необходимо ответить, что, во–первых, в эллинистическом мире существовало намного более четкое представление о личности, чем допускают стандартные социологические схемы «коллективно ориентированного» средиземноморского общества[436]; но, даже независимо от этого, «коллективно–ориентированное» общество предполагает лишь, что индивидуум понимает себя и воспринимается другими как член определенной группы (или нескольких групп) — как «диадическая» или, точнее, «полиадическая»[437] и «укорененная в обществе» личность[438]. Мы уже показали, что Петр у Марка предстает как индивидуальная личность, однако личность, тесно связанная с группой апостолов. Это, разумеется, предполагает, что он разделяет некоторые общие характеристики, атрибутируемые Марком апостолам в целом (верность и неверность, понимание и непонимание)[439] — однако не исключает и других характеристик, выделяющих его из группы как отдельную личность[440].
Что же касается склонности античной литературы изображать «типы» — ее легко преувеличить. Разумеется, у древних не было нашего современного представления об уникальности и психологической сложности личности — это отчасти связано с тем, что характеры в древности изображались не столько через психологическую интроспекцию, сколько через действия[441]. Кристофер Пеллинг пишет о греческой драме:
Драматурги придают своим героям набор естественно сочетающихся черт, не стремясь к уникальным или парадоксальным комбинациям: в этом смысле они далеко отстоят от того, что мы привыкли встречать в современной литературе. Но это само по себе еще не превращает характеры в «типы»: энергичный ум Эдипа в «Эдипе–царе» естественно сочетается с другими чертами его характера, так же, как у Аякса — строгая приверженность гомеровской этике, доведенной до ригоризма, у Антигоны — фанатичная суровость к сестре. Все они не сводятся к единому типу «софокловского героя»: в каждом случае новая черта гармонично сочетается со старыми. Перед нами не уникальный характер–микст, а нечто такое, к повторению чего в реальном человеке или в другом сценическом персонаже мы вполне готовы: однако в каждом случае перед нами — личность, воспринятая и понятая как самостоятельный характер, обладающий собственной, отличной от других индивидуальностью[442].
Кроме того, важно понимать, что описание характера у древних авторов может «колебаться между типом и индивидуальностью»[443], даже если речь идет об одном и том же герое. Фред Бернетт отмечает, что поэтому
представляется разумным понимать характер, по крайней мере, в любом библейском тексте, как континуум. Для таких повествований, как евангельские, это означает, что не следует воспринимать характер героев как преимущественно типический — вместо этого стоит следить за степенью характеризации[444].
Вот почему вполне правомерно утверждение, что Петр в Евангелии от Марка — не просто «типичный ученик», но и индивидуальный персонаж, чей характер показан нам наиболее полно, не считая характера самого Иисуса[445].
Характеризация Петра у Марка, как и следовало ожидать, достигается не путем прямого описания его характера, а путем изображения его слов и действий. Петр — человек инициативный (1:36?) и самоуверенный, говорит, когда другие молчат (8:29, 32; 10:28), иногда проницателен (8:29), порой чересчур импульсивен (8:32; 9:5, 6). Однако даже в последних случаях, не понимая Иисуса, Петр демонстрирует любовь к нему и желает добра. Он самоуверенно полагает, что в энтузиастической верности Иисусу ему нет равных (14:29–31). И действительно, в верности Иисусу он демонстрирует больше мужества, чем остальные (14:50, 54), однако дальше его верность вступает в притиворечие со страхом. Испугавшись за себя, он не просто оставляет Иисуса, как другие, но и открыто отрекается от него (14:68–71). Однако верность и любовь к Иисусу одерживают в нем верх и заставляют горько сожалеть о случившемся (14:72)[446]. Этот момент самопознания, когда иллюзорная самоуверенность Петра разлетается в прах, ясно показывает, что Петр — не статический характер, что его психологический портрет подвергается глубоким внутренним переменам, вызванным тяжким опытом и ведущим к новому представлению о себе.
Некоторые ученые полагают, что изображение Петра у Марка, с его яркими негативными чертами, полемично по отношению к Петру[447]; по той же причине полемичным считают и изображение Двенадцати (или учеников в целом)[448]. Ошибочность этой теории подтверждается заботой Марка о том, чтобы поддержать в своих читателях или слушателях симпатию к Петру. В своем рассказе о Петре он определенно не скрывает негативных моментов: предполагается, что слушатели и читатели будут разочарованы и недовольны поведением Петра как в тех двух случаях, когда он заслуживает от Иисуса суровую отповедь (8:33; 14:37–38), так и тогда, когда он заявляет, что не имеет с Иисусом ничего общего, и даже клянется в этом (14:66–72). Сами по себе эти сцены могли бы отдалить читателей и слушателей от Петра, заставить их не сопереживать ему[449]. Однако, как отмечает Томас Бумершайн, Марк прилагает особые усилия, чтобы сохранить и восстановить их симпатии к Петру. В случае, когда Петр неверно понимает мессианство Иисуса (8:32) и слышит от него суровый ответ (8:33), непосредственно перед этим он исповедует Иисуса Мессией (8:29) — из чего читатели и слушатели делают вывод, что Петр хочет добра, а ошибается лишь из–за горячности, «не подумав». Более того: вскоре после этой серьезной ошибки Петра рассказ о Преображении вновь напоминает о нем читателям и слушателям и пробуждает к нему симпатию. Петр делает неуместное предложение построить хижины для Иисуса и его небесных гостей — и Марк тут же поясняет: «Ибо не знал он, что сказать, потому что они были в страхе» (Мк 9:6). Такое проникновение в мысли и чувства Петра «предлагает нам отождествить себя с Петром, чьи чувства изображены как естественные для любого, оказавшегося в такой компании»[450].
Подобные же симпатизирующие ноты объяснения и оправдания звучат у Марка в рассказе о том, как Петр и другие ученики засыпают в Гефсимании. Прежде всего, сам Иисус говорит: «Дух бодр, плоть же немощна» (14:38), подразумевая, что намерения у них были благие. Далее и сам автор замечает: «Глаза у них отяжелели, и они не знали, что Ему отвечать» (14:40). Бумершайн предполагает, что первая часть этой фразы могла напоминать читателям и слушателям об обильной и щедро сдобренной вином, по обычаю, пасхальной трапезе, и продолжает:
Описание их неспособности что–то сказать «изнутри» конкретизирует охвативший их стыд. Что может сказать тот, кто покинул любимого друга в час величайшей нужды — пусть даже и был не в силах ему помочь? Комментарии рассказчика объясняют ситуацию, в которой оказались ученики, и их чувства. Эти комментарии ни в коем случае не оправдывают учеников, не преуменьшают их слабость. Однако их нарративная функция — в том, чтобы помочь слушателям понять их неспособность к бодрствованию и ей посочувствовать. Таким образом, этот эпизод дает слушателям возможность отождествить себя с героями и предотвращает негативное отношение или отчуждение от них[451].
Что же касается рассказа об отречении Петра, представляющего собой кульминационную точку отчуждения от Петра читателей и слушателей — он заканчивается тем, что Бумершайн называет «самым ярким и пронзительным описанием душевной жизни во всей книге»[452]. Вместе с Петром читатели и слушатели внезапно понимают, что он наделал, переживают его стыд и скорбь. Они чувствуют, что зрелище собственного падения потрясло Петра и преобразило его душу.
Таким образом, в целом, со всеми нюансами характеризация Петра побуждает читателей и слушателей симпатизировать ему и отождествлять себя с ним[453], поощряя его индивидуализацию и выделение из массы учеников.
Отличительная черта такой характеризации Петра — та, что она остается неизменной во всех четырех канонических Евангелиях. Связанный с Петром, но не параллельный Марку материал других Евангелий демонстрирует те же черты Петра: порывистость, самоуверенность, открытость, глубокую преданность Иисусу (Мф 14: 28–33, Лк 5:8; 22:33, Ин 6:68–69; 13:6–10; 20:2–10; 21:7, 15–19). Следует ли объяснить это тем, что в различных традициях независимо друг от друга сохранился образ реального Петра? Или влиянием портрета Петра у Марка на остальные Евангелия? Или же определенным стереотипным представлением о Петре, возникшем в раннехристианском движении и повлиявшем на все предания? Ученые–новозаветники до сих пор не касались этого вопроса, который, безусловно, заслуживает рассмотрения и обсуждения — но не в этой книге.