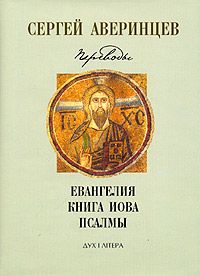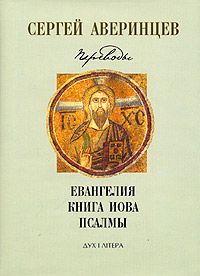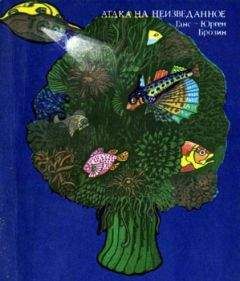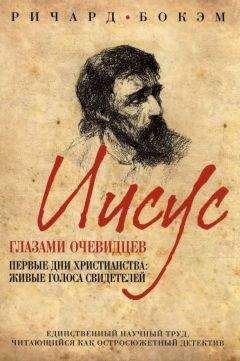Ганс-Юрген Хагель - О недостоверности иудео-христианства
Христианство без собственной идентичности.
Из-за многочисленных неизбежных противоречий между Новым Заветом или «христианской Библией» и «еврейской Библией» существует непреодолимая пропасть, формальное преодоление которой в столь же малой степени может быть устранено идеологически-диалектическим логическим обоснованием, как и содержательная несовместимость «Иеговы» и «его единородного сына» Иешуа бар Йосефа, названного «Иисусом Христом»: здесь жестокий еврейский «бог Иегова», там нееврейское «воплощение Христа»! Хотя «спасение» было центральным понятием в иудаизме того времени, но ни одному верующему еврею и в голову не пришло бы совершенно неиудейское понимание, что бог «Иегова» позволил бы убить своего единственного сына на кресте как преступника. Также и утверждение, что Ветхий Завет был якобы чем-то вроде первой ступени христианства, совершенно ошибочно. Так как, то «что является христианским, никак нельзя усмотреть в Ветхом Завете», как говорит, например, также известный исследователь раннего христианства Aдольф фон Харнак. Кроме того, существует и вторая непреодолимая пропасть, а именно – между Иисусом Евангелия и Христом, провозгласившим церковь. Эту религиозно-духовную расселину Иоханнес Леман описывает такими словами: «Если церковь и теология действительно имели в виду исторического Иисуса, то они должны были бы больше говорить о Боге и меньше о раввине И.. Вместо этого они «провозглашают» затемненного и искаженного, возникшего в истории и традиции «Христа», в котором раввин И. вообще не узнал бы себя или узнал бы с удивлением или с ужасом. Они говорят о Спасителе и о Воскрешенном; они называют его сыном Бога, который несет наши прегрешения; посредником, миротворцем и господом; еще сегодня они признают в своем символе веры, что он был рожден непорочной женщиной и вознесся на небеса, сев там одесную Бога – и ни в одном этом слове раввин И. не узнал бы себя и не сказал бы: – Да, это я».
Предположение, что евангелисты с рождения стилизовали рабби Иешуа в образ сверхъестественной личности с парадоксальной двойной функцией как «иудейского мессии» и как «нееврейского, греческого Христа», нашло современное подтверждение, когда в «Унифицированном переводе Священного писания» 1980 года известные слова «ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета» (Матф. 26,28) приводится в сокращенной форме как «сие есть Кровь Завета». Комиссия переводчиков, состоящая из богословов и лингвистов под духовным наблюдением епископов (по-гречески: «смотрители») обеих церквей или конфессий, при передаче этого места в тексте Нового Завета очевидно ссылалась на еврейскую Библию (Вторая книга Моисея. Исход, 24,8), где сказано: «И взял Моисей крови (после жертвы всесожжения) и окропил народ, говоря: вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах сих».
Без сомнения, Иисус со своими «двенадцатью апостолами» говорил по-еврейски или по-арамейски, но уж точно не на греческом языке, языке оригинала Евангелий. Как часто бывает, здесь возникает неразрешимая проблема. У трех евангелистов Матфея, Луки и Марка единогласно именно по «подстрочному переводу» дословно речь идет о «aima mou tes diathexes», что означает «моя кровь» или «кровь моя» «Завета». Передача этого вероятно самого важного высказывания Иисуса без слова «мой» может быть только целенаправленной подделкой и не допускает по этой причине никакой другой интерпретации кроме той, что Иисусу как Христу [!] по поводу учреждения «причастия» на Святой вечере впоследствии будет приписана мысль, которая пришла в голову не ему и была высказана не им, а основателем религии иудеев Моисеем примерно за 1200 лет до него. Таким образом, сама церковь, опустила своего «Христа» до уровня кого-то вроде помощника Моисея и, тем самым, предала его. Едва ли можно найти более отчетливое выражение даже сегодня еще очевидно желаемого (религиозного) соединения «Нового Завета» с «Законом Моисеевым». Или же все ответственные за перевод епископы не доверяют сообщениям трех синоптических Евангелий?
От религиозной веры к политической власти.
Чрезвычайно длинный период в три века, то есть, от распятия рабби Иисуса до собора в Никее в 325 году, потребовался для построения догматического символа веры, что свидетельствует не только о горячих богословских дискуссиях, да, даже о спорах внутри «христианской секты»; и духовная борьба, несомненно, продлилась бы еще дольше, если бы император Константин в самом буквальном смысле не водрузил бы корону на подделку «раннего христианства», подняв тем самым «христианскую секту» на уровень государственной религии.
Как могло дойти до этой уникальной в мировой истории связи, даже сцепления государства и «религии», так что историки, и не только они, на протяжении веков вынуждены были говорить о государственном христианстве вместо христианского государства или, после распада мировой Римской империи, соответственно о государствах, подпавших под влияние христианской религии? Опирающийся на исторические знания и потому достоверный ответ на этот вопрос звучит так. Население тогдашней мировой Римской империи примерно в 300 году нашей эры составляло около 50 миллионов человек, из которых самое большее 15 миллионов, то есть почти 30%, были «христианами». Эти «христиане» были рассеяны по всему Средиземноморью, т.е. по многим странам. Они хоть и образовывали меньшинство без управления и влияния и из-за их ритуалов частично подвергались преследованию со стороны государства, но, с другой стороны, пользуясь современным лексиконом, представляли собой большой потенциал избирателей. Император Константин был жестоким политиком и столь же безжалостным агрессором, захватившим много земель для своей империи в ходе своих военных походов. Потому ему пришлось стараться в возможно большей степени избавить свое огромное государство, протянувшееся от Шотландии до «Малой Азии», от каких-либо внутренних конфликтов, чтобы оно сравнительно быстро не развалилось снова. Потому ему было совсем не нужно, чтобы около четверти его населения оказалось его противником или даже врагом, и преследовать этих людей лишь потому, что они не хотели признавать божественные государственные символы. Сохранилось письмо императора некоему Ануллину, в котором Константин поясняет, что побудило его к терпимости по отношению к «христианской секте». Среди прочего, в этом письме сообщается, что «неуважение к христианскому богослужению означало бы для государства большую опасность, его возобновление и благожелательность к нему, напротив, принесли счастье и благодать». Таким образом, именно политически зрелая воля привела Константина к церкви, а не набожность в его сердце, как считали последующие поколения.
Между тем «христианская секта» за три века все более превращалась в иерархически организованную церковь, и, наконец, представляла настолько большую власть, что при определенных обстоятельствах она могла вызвать падение империи. Поэтому Константину было необходимо поддерживать союз с этой силой. С его точки зрения политической целью могло быть только огосударствление христианства, а не христианизация государства. Как стало возможным, что те, кто как раз недавно были готовы стать религиозными мучениками, противясь обожествлению государства в римском смысле, теперь внезапно подчинились императору, которого его панегиристы все еще осыпали божественными атрибутами, и который, пока еще строил храм, позволял называть себя заместителем Христа – такой вопрос мы должны задать вместе с Иоханнесом Леманном.
Когда император Константин в 324 году после войны овладел также Восточной Римской империей, он сразу позаботился об улаживании чреватого последствиями спора в египетском городе Александрии. Речь там шла о чрезвычайно важной проблеме: хотело ли «христианство» в дальнейшем придерживаться введенного Моисеем иудейского монотеизма, из которого произошел также и сам Иисус, или должно было быть введено учение о трех богах. Если спросить точнее: Был ли иудейский миссионер Иисус, которого триста лет до того объявили «Христом» сам Богом или нет? Согласно наличествующим «христианским» текстам источников, собранных некими «отцами церкви» и объявленных ими каноном, он таковым не являлся. Савл/Павел и четыре евангелиста называли его только «Сыном Божьим». Это наименование означало, тем не менее, в те времена ничто иное, как то, что у человека было особенное отношение к «Богу». Никогда, во всяком случае, сам Иисус не представлялся как Бог. Это и без того было бы наихудшей клеветой, так как для евреев был и всегда есть только один Бог с различными именами Яхве, Иегова, Адонай и Эль Шаддай и др., которого умирающий на кресте Иисус доверительно называл «Абба» («папа»). Даже если мы считаем одно из предполагаемых последних слов умирающего Иисуса правдивым, как они добросовестно (?) переданы библейскими евангелистами, которые сами не были свидетелями происходившего, из них нельзя вывести понятие «сына божьего» в смысле тождества. Доказательством этого могут служить соответствующие цитаты: