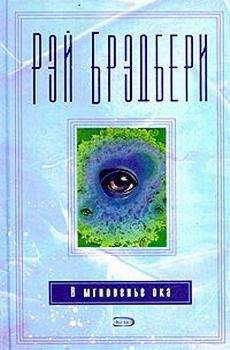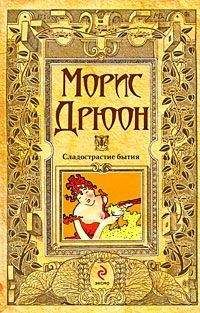Андрей Курпатов - Страх. Сладострастие. Смерть
Знаете, тут можно наплести целый ворох разнообразнейшей чепухи, и, как ни парадоксально, каждый тезис будет правдой. Можно сказать, к примеру, что Достоевский был националистом, и это правда. Можно сказать, что его отношения с женщинами были, мягко говоря, сложными, а свою последнюю жену он называл не иначе, как «моя пишущая машинка»; вместе с тем, именно он, Достоевский, создал, наверное, самый гомоэротический образ русской литературы, о чем Бердяев в своей статье «Ставрогин» расскажет с неподдельной страстностью. Из всех этих и множества других фактов можно сделать целую серию хлестких выводов. Можно также свести судьбы Уайльда и Достоевского, поверьте, мы найдем такое множество соприкосновений, что даже трудно себе представить. Можно, кроме прочего, провести параллели между Уайльдом и Великим Инквизитором, даже Христом и Саломеей, можно вообще бог знает что наговорить! Но это ничего нам не скажет.
Новый фашизм уже на пороге, он хорошо одет и от него веет дорогим парфюмом, но он не знает любви, «ибо ничего и никогда не было для человека и для человеческого общества невыносимее свободы! (Великий Инквизитор)». И поэтому, даже когда нежный и любящий Бог целует человека в его бескровные уста, он не может ответить Ему взаимностью, и только уголки губ прошепчут невнятное признание-мольбу. Он не может ответить, но он будет говорить, говорить так же страстно и увлеченно, с таким же самолюбованием, как это делают Великий Инквизитор и Уайльд, провозглашая идеалы сострадания без страдания и красоты без человека. Этот речевой поток, я уверен, будет восхитителен, страх всегда рядится в красивые маски. Но именно поэтому мы должны замолчать, причем не просто замолчать, а умереть в этом молчании. Мы должны позволить себе умереть, ибо наш страх перед смертью превратил жизнь в подобие самой лютой из смертей. Мы, со всем нашим ворохом психологических проблем, подобных тяжелейшей заразной болезни, должны умереть для жизни. Трупы, изъязвленные чумой, сжигают – это единственный способ избавиться от заразы. Знак смерти – это знак воскрешения. Поэтому мы вернемся к танцу Саломеи Романа Виктюка, чтобы найти выход.
Стилистически явно отличающийся от всего спектакля в целом танец Саломеи, разверзающийся подобно внезапно начавшемуся шторму, фактически переворачивает содержание всего действия, заставляет нас увидеть уже просмотренный спектакль в новом свете, в одно мгновение перечесть весь текст спектакля. И это отнюдь не интеллектуальное, не умозрительное переложение – это переживание внутреннегоизменения. Танец, расположенный в конце спектакля, позволяет «размотать» спектакль из конца в начало, взглянуть на него совершенно иными глазами. Танец Саломеи – ключ, открывающий нам весь прежде скрытый, лишь подспудно ощущаемый смысл спектакля. Вживаясь в тело спектакля, мы разматываем его от начала в конец; тело спектакля ритмично пульсирует; постепенно, по мере нашего вхождения в его вибрирующую ткань, спектакль оживает; и в конце вдруг – удар! Момент смерти. Словно мощная волна ударилась о железобетонную преграду и уничтожила себя, издав дикий предсмертный рев. Со всей своей неутоленной, но уже бессильной мощью она отбрасывается назад и стихает, и в этот миг, в одно это мгновение весь спектакль словно бы перерождается заново, он словно бы прочитывается нами задом наперед, переворачивается, опрокидывая уже как будто бы сложившиеся смыслы, и обретает совершенно иное звучание, холодный и величественный блеск и фантастическую глубину истины, точнее – безжалостной правды о нас. Мы встречаемся со своим Портретом. Мы – Дорианы Греи – встречаемся со своим изуродованным ликом на полотне.
Момент истины, момент смерти… Миг ослепляющего света и оглушающего рокота стихий… Миг, мгновение… И тишина, тишина глухоты. Но это не слепота, нет, в кромешном мраке зала мы видим свет. Свет идет не извне, он не ослепляет, этот свет проистекает изнутри, преображая наш облик, – портрет Дориана со смертью Дориана обретает свое прежнее великолепие. Я абсолютно уверен в том, что даже самые жестокие, самые чудовищные сцены в спектаклях Романа Виктюка в высшей степени обращены к человеку – в этом суть его драматургии. Их жестокость призвана остановить наше уже начавшееся падение в пропасть ненависти и человеконенавистничества, пропасть, которая является прямым следствием отсутствия внутреннего света Любви в очерствевших от страха сердцах современных людей. Каждый спектакль Романа Виктюка – это исповедь человека, исповедь человечества, преломленная в душе конкретного лица, исповедь души, исповедь перед смертью, перед лицом смерти, исповедь на смертном ложе… исповедь жизни.
Поэтому, когда мы смотрим «Саломею» Романа Виктюка, перед нами не «Саломея» Оскара Уайльда, а весь Уайльд, полное собрание. Но и более того, этот спектакль о нас, о каждом из нас. Мы все разные, но трагедия у нас одна на всех. В существе каждого из нас, в глубинах нашей души есть зачатки всего человеческого, поэтому любой человек – это наше собственное отражение, преломленное, подчас уродливое, а подчас трагическое, но совершенно реальное отражение нашего собственного существа. Заметить эту «ту сторону Луны» не всегда легко, тем более Нарциссу. Но именно поэтому каждый спектакль Романа Григорьевича так ценен, ибо он позволяет нам увидеть себя в других, а значит, позволить Другому быть другим. И ведь именно в этой поразительной способности и заключено подлинно человеческое. Только позволяя другому быть Другим, мы получаем право быть собой. И только будучи собой, мы можем воспользоваться тем даром Любви, который, я уверен, есть в душе каждого.
Молодой сириец. Как прекрасна сегодня царевна Саломея!
Паж Иродиады. Посмотри на луну. До чего луна кажется странной.
Саломея. Как хорошо смотреть на луну! Она непорочна…
Post scriptum
Гений может быть востребован только гением. Многие, в это хочется верить, способны воспринять гениальное произведение, но его Творец несравнимо сложнее любого, пусть даже лучшего, своего шедевра. Последний рождается из глубины внутреннего противоречия, внутренней противоречивости гениального человека. В разломе этого противоречия гениальной души сияет бездна, и свет, изливающийся оттуда, так остер, так ярок, так болезненно жгуч, что всякий ослепнет, глядя на него словно бы на пылающее в зените Солнце; ослепнет, так ничего и не увидев, так ничего и не поняв, так и не узнав, как глубока эта пропасть. Поэтому гений может быть востребован только гением.
Заветная мечта каждого человека – быть востребованным во всей своей полноте, принятым во всей своей противоречивости, сложности, со всем своим непостоянством, слабостью, верой, с болью и с радостью, в боли и радости. Мы хотим, чтобы нас любили такими, какие мы есть, такими, каковы мы на самом деле. В противном случае нам придется играть, паясничать, притворяться; нам придется поступать так, даже несмотря на едкую, подчас невыносимую боль лжи. Ведь больше всего на свете мы хотим быть любимыми, точнее, любить и быть любимыми. Но может ли любить гений? Какая любовь может утолить жажду любви подлинного гения? Кого может любить гений, если не гения? Поэтому гений может быть востребован только гением.
Из обжигающего света своей души, из этого пламени внутреннего горения гений прядет сияющие в кромешной мгле нити, которым суждено стать золотым руном его Искусства. Гению суждено сгореть в жерле искусства. Рожденный человеком, он не в праве, не в силах быть им. Его искусство больше, чем он сам, оно сильнее его, оно властвует и распоряжается Художником. Эту трагедию гениальной души можно лишь представить, ощутить же ее может только гений.
Но если гений, обреченный на вечную муку своего творчества, терзаемый внутренней болью своей неустанной работы, не переступит своего одиночества, своей человеческой трагедии, он будет бесконечно несчастен. И как же счастлив должен быть гений, востребованный гением Любви! Смертному неведомо это счастье. Что ж, остается только позавидовать Оскару Уайльду. Пусть спустя столетие, но это произошло. Теперь где-то там, на небесах, его душа, должно быть, ликует, как он и предсказывал в своем «Счастливом Принце». Теперь он востребован, востребован гением Любви, на подмостках театра Романа Виктюка.
Примечания
1
Война всех против всех. (лат.)