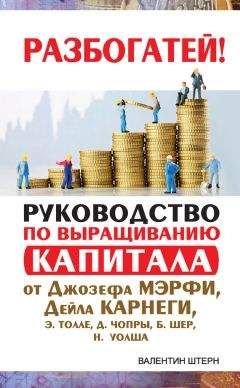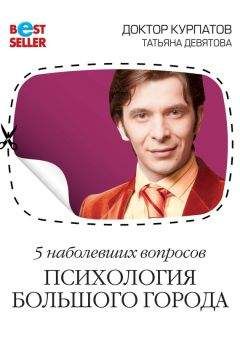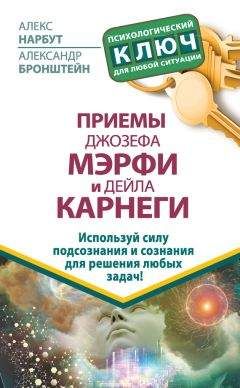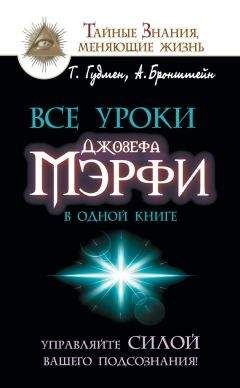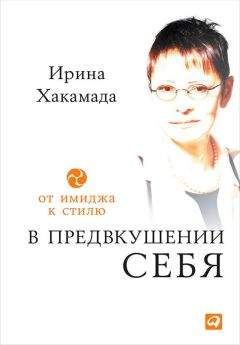Татьяна Девятова - 5 наболевших вопросов. Психология большого города
– То есть, по вашему мнению, сейчас вообще нет никакой связи между талантом и успешностью – ни прямой, ни обратной?
– А каким образом, посредством чего они могут быть связаны? Гений часто бывает чудовищно неусидчив, он зависит от своего состояния, настроения, вдохновения, а бездарность, напротив, дотошна и, как результат, плодотворна. Гений может совершенно не уметь ладить с людьми, а бездарность, наоборот, – ладить прекрасно и благодаря этому многого добиваться. Бывают гении, которые никогда не станут «подстраиваться под аудиторию», под ее вкусы, интересы и настроения, а бездарность вполне может выполнить «госзаказ». Логично? Логично.
Но, с другой стороны, если так рассуждать, то у гения вообще нет никаких шансов быть успешным… А это полная ерунда. Бывают, кстати сказать, гении и весьма усидчивые, и умеющие общаться с людьми прекрасно. И как тут отличишь – где гений, а где посредственность, выдающая себя за гения? А где, кстати сказать, гений, который не только о себе думает и своих личных драмах, но и о людях, а поэтому и беспокоится о том, чтобы его работы дошли до «конечного потребителя», были им восприняты благосклонно? Беспокоится, работает в этом направлении и, как результат, достигает успеха.
А теперь давайте зайдем с другого конца – может быть, публика не может принять гения, а потому только бездарность достигает безумного успеха? Но кто более популярен – Моцарт или Шостакович? Моцарт Вольфганг Амадей – вне сомнений. Он меньший гений, нежели Дмитрий Дмитриевич? Ну тоже, наверное, вряд ли. Просто музыка Моцарта, по крайней мере ее часть, куда более приятна слуху, нежели основной массив музыки Шостаковича. Ее легче, ее приятнее воспринимать. Она не требует усилий со стороны слушателя. Ну или в меньшей степени требует, нежели музыка Шостаковича. Вот и вся разница. Естественно, что у Моцарта больше шансов на успех у публики, нежели у Шостаковича. И теперь ваш вопрос – как связан талант с успехом? Нет прямой связи. Тут множество нюансов…
В конечном итоге мы переходим из сферы субъективной оценки в сферу, где есть критерий – простое или сложное, требующее затрат усилий со стороны слушателя, зрителя, читателя или не требующее. То, что сложнее, разумеется, имеет больший воспитательный компонент: то, что сложнее, в отличие от простого и понятного, заставляет нас производить некую работу, а работа всегда хороша для внутреннего развития человека. Если совсем просто, где нет изысканности простоты (а «простота» может быть изысканной, как, например, у Моцарта), это, скорее всего, в меньшей степени относится к явлению культуры. Хотя сложность как таковая тоже не может являться единственным и несомненным признаком культуры, произведением искусства.
То, что точно не является искусством, не дает нам ничего, кроме удовольствия. Если же кроме удовольствия мы получаем еще что-то – или совершаем какой-то внутренний труд, или изменяемся сами, или переживаем вдохновение и желание, в свою очередь, совершать какую-то творческую работу – это, скорее всего, искусство. Хотя тут опять же появляется Его Величество «Вкус» и Его Высочество «Предпочтение». Тут уже психофизиология. Кто-то просто по своим внутренним, психологическим особенностям более склонен восторгаться зрелищем, кто-то звуком, кто-то цветом. И дальше тоже дифференцировка – для кого-то динамичное зрелище просто в силу скорости реакции психического аппарата зрителя предпочтительнее, нежели зрелище «в рапиде».
Но там, где одно только развлечение и ничего больше, – это точно не вопрос культуры в том высоком смысле, в котором мы привыкли о ней думать. Можно смотреть программу «Аншлаг», можно смотреть программу «Кривое зеркало», я не вижу к этому никаких противопоказаний. Знаете, я сам сначала относился с легким снобизмом к такому юмору, очень специфичному: о пьянках-гулянках, о конфликтах в семье, о всяческих скабрезностях – вот весь набор юмора, который обнаруживается в такого рода программах. Но как-то раз поздно вечером, почти ночью уже, после монтажа шел по коридорам Останкино и услышал гомерический хохот. В бесконечных останкинских коридорах он звучал просто как сирена! Это было что-то из ряда вон выходящее. Я заглянул в комнатку, откуда раздавался этот звук. Там сидела пожилая вахтерша и смотрела одну из этих программ. И я понял, что у этих программ есть своя, более чем благодарная аудитория, и заставлять ее смотреть симфонический концерт было бы и странно, и неправильно, и даже жестоко.
А искусство… Оно потребует от нас труда, мы будем переживать напряжение, нам, скорее всего, придется совершить некую работу, но при этом мы будем получать удовольствие как от самой работы, так и от тех изменений, к которым нас данное произведение подтолкнет. Если же вы совершили усилие, а удовольствия никакого не получили, это вас никак не обогатило, то, скорее всего, это не было произведением искусства. Впрочем, придется сделать скидку на особенности своей психической организации… Никто из нас не является эталоном, по которому можно производить замеры – подлинное искусство перед нами или подделка. Вот такое у меня отношение к культуре.
Впрочем, все это хорошо и действенно лишь в том случае, если мы находимся в постоянном контакте с тем, что есть искусство или претендует на эту роль. Без систематических упражнений в этом деле – выставки, спектакли, кинофильмы, концерты, литература – все это предприятие под названием «приобщение к прекрасному» теряет всякий смысл. А если будет этот систематизм, то у творцов будут и заслуженные ими гонорары. Что важно. В противном случае все наше искусство благополучно перекочует на ближайшие кладбища и мы будем изучать одну только «историю искусства» в разделе «Как это было».
Правовая культура. Вводный курс
Да, похоже, слово «культура» настолько неопределенное, что является просто фоном для каких-то более очерченных понятий. Вы заметили, когда Андрей начал говорить о чем-то определенном, то сразу заменил слово «культура» на слово «искусство»?
Наверное, имеет смысл говорить о культуре только в приложении к чему-то: правовая культура, психологическая культура… И здесь слова «правовая» и «психологическая» – ключевые, несущие основную смысловую нагрузку.
– «Тварь я дрожащая или право имею?» Андрей, очень хочу задать вопрос о правовой культуре. Это ведь тоже культура! Правда, такого понятия в советском обществе не было вовсе. А ведь это не только юридический термин, это не просто знание параграфов разных законов, но и уровень осознания – чувства, что у тебя есть права. С уважительного отношения к собственным правам начинается уважение прав другого человека, а значит, и другой статус нашего сосуществования, нашего общения друг с другом.
– Я думаю, что правовая культура – это прежде всего знание своих прав, своей ответственности и внутренняя готовность защищать и то, и другое. К сожалению, в массе своей эта готовность у россиян категорически отсутствует. Мы не верим в то, что можем себя защитить. И прежде всего потому как мы не понимаем, что именно в таком случае мы должны защищать. Защищать кого-нибудь другого – это пожалуйста, тут мы, что называется, и «пасть», и «моргалы». А самих себя – нет, не умеем, не можем, не понимаем. Мы вообще живем с каким-то странным чувством… словно черепаха, у которой украли панцирь. Вот так живет целый народ, живет и чувствует себя беззащитным.
Зачем нужны законы, зачем они создаются? Если мы уйдем от обсуждения деталей, то увидим, что главная задача закона – защитить законопослушных, порядочных граждан. На первый взгляд это какая-то тавтология, но так и есть: законы нужны для того, чтобы защитить тех, кто не ворует, не мошенничает и не насильничает, от тех, кто всем этим занимается. То есть главная цель закона – защитить гражданина от всех возможных напастей, которые могут встретиться в обществе, во взаимоотношениях между людьми. Кроме того, законы призваны защищать тех, кто оказывается обездоленным перед лицом обстоятельств, чтобы они – эти обездоленные – не перешли в разряд тех, с кем закон вынужден бороться.
В любом случае закон – это то, что должно защищать. Это инструмент защиты. Но почему мы все поголовно впадаем в панику, когда слышим это ужасное слово из пяти букв – «закон»? В нашем массовом сознании закон ассоциируется с наказанием, а не с чувством защищенности. Вот это и есть правовое бескультурье, наследие тоталитарного прошлого. В тоталитарном государстве у его граждан формируется подсознательное чувство вины: «Страна столько для тебя сделала! Партия вся находится в перманентной заботе о тебе! Вождь ночами не спит, все думает, как твою жизнь улучшить! А ты?! Тунеядец и проходимец!» В общем, привыкли мы паниковать при слове «закон». И это то, что мы должны в себе изжить, выдавить, так сказать, по капле. Только когда отношение к закону в обществе изменится, только когда в законе перестанут видеть инструмент наказания, а будут видеть средство защиты, только в этот момент правовая культура и пойдет в гору.