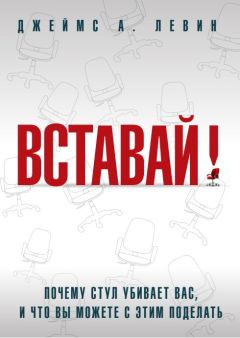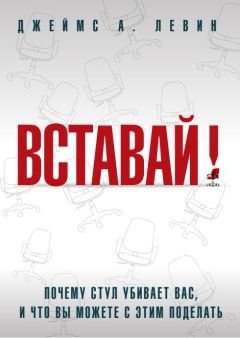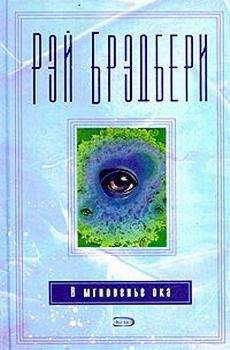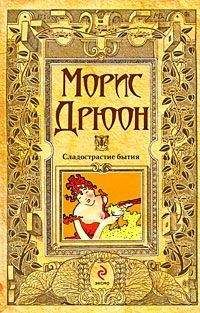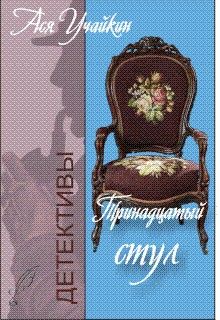Андрей Курпатов - Страх. Сладострастие. Смерть
Впрочем, уже самому Уайльду было понятно, что драматический эффект в «Саломее» может быть достигнут только благодаря тщательной проработке структур; с этой целью он использует эффект рефрена. «Повторяющиеся фразы в “Саломее”, – пишет Уайльд, – которые сцепляют ее в единое целое, как лейтмотивы, навеяны – и я понимал это, когда писал, – рефренами старинных баллад». Роман Григорьевич идет еще дальше: желая сохранить целостность драматического эффекта, которая разрушается под натиском дополнительных тем, он выносит за скобки своего произведения те сцены уайльдовской пьесы, в которых псевдонатуралистически обсуждаются религиозные разногласия героев, справедливо полагая, что «Саломея» – не историко-религиозный очерк, а трагедия, и не религиозная трагедия, а трагедия человеческая.
Кроме того, трепетно сохранив специфику «повторяющихся фраз», создающих ритм и движение действия, Роман Григорьевич устраняет, например, по-декадентски перегруженную и весьма утомительную сцену «торгов», в которые вступает Ирод, желая убедить Саломею отказаться от головы Иоканаана в пользу «белых павлинов», «ожерелья из четырех рядов жемчугов, подобных лунам, связанных между собой серебряными лучами» и множества других драгоценностей, отрекомендованных Уайльдом с той же декадентской пресыщенностью. Кстати, эту тему «торгов богатствами» Роман Григорьевич заменяет потрясающими «торгами души», которые разворачиваются между Дугласом и Уайльдом, от чего драматический эффект танца Саломеи усиливается многократно. От всех этих изменений текст Уайльда не только не пострадал, но, напротив, значительно выиграл.
Теперь я снова возвращаюсь к семиологии Ролана Барта. «Если мы не хотим упустить из виду множественность текста, – пишет Барт, – то мы должны отказаться от его членения на большие массивы, чем как раз и занималась классическая риторика, равно как и школьное “объяснение текста”: ни о какой конструкции текста не может быть и речи: все в нем находится в процессе ежесекундного и многократного означивания, но при этом никак не сопряжено с итоговым целым, с завершенной структурой». Мы действительно не хотим упустить множественность спектакля, не утратив при этом ощущения его целостности, поэтому остановимся на этом предложении Барта о пошаговой дешифровке произведения.
Барт прав: необходимо поступательное движение, иначе произведение (текст-спектакль) не раскроется нам в своей истинной красоте и сущностной индивидуальности. Когда мы видим бутон розы, мы, разумеется, можем быстро и без особых затруднений узнать, «что у него внутри», но ведь единственное, чем напитается наше существо при таком, с позволения сказать, «познании», – это и без того знакомым ему экстазом разрушения. И что мы узнаем таким образом нового? Что мы узнаем не о себе, а о нем, о ней, о розе? Зачем нам знание, лишенное знания о Другом? Это знание темноты, ничтойности, а не света, не полноты, это знание смерти, а не жизни. Для того чтобы познать свет, нам надлежит поступить иначе, в соответствии с концепцией Барта: набраться терпения и, устроившись рядом с цветком, тихо и неторопливо внимать его чувственному набуханию, страстному танцу его тонких, как расписной шелк, лепестков. Иными словами, предложение Барта о пошаговом вживании в раскрывающееся без нашего нажима сущностное тело спектакля мы принимаем безоговорочно.
Теперь нам следует рассмотреть потрясающий по своему изяществу и изысканной подаче механизм, который использует в своей драматургии Роман Виктюк. И я вовсе не преувеличиваю, говоря об изяществе и изысканности. Роман Григорьевич не вынуждает зрителя изучать работы Барта или других теоретиков, чтобы понять принципы и коды дешифровки своих произведений, он просто строит свой спектакль таким удивительным образом, что зритель открывает существо спектакля словно бы случайно, неосознанно, самопроизвольно, без всяких подсказок со стороны «теоретиков», без нелепого пыженья воли и бессмысленных стараний интеллекта. Право, механизм действительно фантастический! Итак, для того чтобы зритель не анатомировал спектакль на отдельные части (в противном случае любое уважающее себя живое существо умрет и будет разлагаться, испуская при этом не самые приятные запахи), его внутренний ритм должен совпасть с внутренним ритмом самого спектакля, точнее, действие должно подспудно навязать ему свой ритм. Этот процесс аналогичен известной и весьма травматичной медицинской процедуре, когда больному сердцу человека с помощью специальных имплантированных датчиков навязывают необходимый ритм. Надо признать, что «операция», которую проделывает с внутренним ритмом зрителя Роман Виктюк, не только не травматична, но даже незаметна для «оперируемого», в этом поразительное изящество его режиссуры-драматургии.
Итак, каким же образом Роман Виктюк добивается такого эффекта? Несколько сателлитных (помимо основного) механизмов лежат на поверхности и вполне очевидны. Во-первых, это четкая ритмика пауз, сделанная с величайшим искусством и удивительным профессиональным чутьем. Спектакль начинается с выхода известной процессии, возглавляемой Оскаром Уайльдом и Бози. Эта процессия время от времени демонстративно и вызывающе замирает в «театральных позах» без каких-либо видимых на то причин и зачастую даже вопреки целесообразности, требующей от персонажей быстренько рассесться по своим местам и начать уже что-нибудь говорить, а не курить, отводя руку с сигаретой на мундштуке дальше, чем этого требует здравый смысл, и тем более не скидывать пепел на красный бархат пола, причем с таким эпатажем! Впрочем, режиссер прекрасно знает, чего мы от него хотим, чего мы ждем. Но если он сделает все, как мы хотим, как мы предполагаем, нас это нисколько не взволнует, ведь не удивляет же нас тот факт, что утром восходит солнце. Вот если бы оно, вопреки установленному порядку, взошло в полночь, это бы сильно приковало наше внимание, мы бы даже внутренне напряглись, пытаясь проникнуть своим встревоженным сознанием в происходящее «непотребство». В сущности, Роман Григорьевич заставляет солнце взойти ночью, и чудо происходит! Странным, загадочным, двусмысленным поведением своих персонажей Роман Виктюк создает так называемую «непривычную ситуацию» для своего зрителя. Непривычная ситуация вынуждает ничего не понимающего, растерявшегося зрителя как-то внутренне собраться, что естественным образом обостряет его восприимчивость. С другой стороны, используя эту временную дезориентировку, Роман Григорьевич «под шумок» диктует зрителю ритм спектакля, который в свою очередь прописан с исключительной точностью и остротой.
Используемый здесь психологический прием достаточно прост, что, впрочем, заставляет проникнуться еще большим уважением к гению режиссера. В «Саломее» этот механизм реализуется таким образом: когда зритель видит движущуюся процессию людей, он естественным образом прогнозирует, что их движение будет продолжаться, пока они не достигнут какой-то определенной цели. Зритель по естественным психологическим механизмам, как бы опережая действительность, рисует в своем воображении действие, которое, как ему кажется, произойдет в следующее мгновение. Но если вдруг движение резко прерывается, люди замирают без всяких на то видимых причин, внезапно, непрогнозируемо, то данный факт вступает в противоречие с предположениями зрителя, который был уверен, что знает, как и что будет дальше. Возникает ощущение, подобное тому, которое испытывает человек, когда, медленно спускаясь по темной лестнице, вдруг оступается на последней ступеньке. Не сами эти «оступления», а их ритм и навязывается зрителю, который самодовольно (а мы все в некоторой степени от себя в восторге) пытается придумывать спектакль за режиссера и бежать впереди паровоза.
В какой-то момент происходит осознание факта, впрочем и без того очевидного: спектакль нужно смотреть и ощущать, а не придумывать за режиссера и не заниматься проигрыванием сцен внутри головы. Поначалу многие зрители, разумеется, испытывают выраженный дискомфорт, вербализируют это ощущение («Когда они прекратят ходить?», «Что все это значит?!»), даже негодуют, самые бестолковые даже хлопают спинками кресел. Впрочем, эта реакция вполне объяснима, предсказуема и даже желательна, ведь сама по себе она является лучшим доказательством того, что усвоение зрителем ритма спектакля, вопреки собственному, идет полным ходом. Таким образом, ритм спектакля постепенно, но неуклонно навязывается зрителю, становится его внутренним ритмом и он, зритель, начинает переживать, ощущать внутреннюю вибрацию синхронно с дрожанием струны трагедии спектакля.
Синхронно звучит шелест плащей, словно бы сотканных из пергамента, позы персонажей вычурны и меняются то мгновенно, как слайды в диапроекторе, то словно бы при замедленной киносъемке, резкие неожиданные вступления персонажей в разговор (сцена судебного процесса над Уайльдом) заставляют зрителя время от времени быстро искать глазами говорящего. Столь же внезапные музыкальные, скрипичные отрывки ритмично разрезают пространство надрывным плачем. Характерен и темп выступлений подсудимого, свидетелей во время процесса: их речь то ускоряется, уподобляясь мелкому граду, то, напротив, становится столь протяжной, что слова начинают таять в этой неудержимой истоме артикуляции.