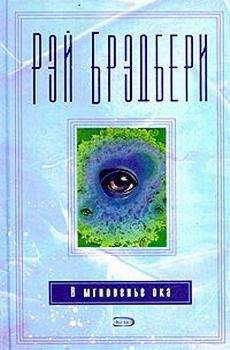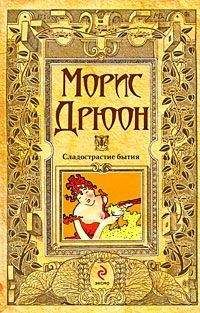Андрей Курпатов - Страх. Сладострастие. Смерть
Сочетание светил было единственным по своей значительности, и если б встреча двух главнейших в тот миг планет совершилась под таким-то углом, создался бы лик красоты благословенной, и звездные лики пели бы Осанну, а тут случилось так, что в воздушном этом море, полном страшных водоворотов, Дьявол успел повернуть налево руль звездного корабля, и встреча двух главных светил обусловила гороскоп, от которого кровь и ужас ринулись в столетия. Единственная по своей красоте Саломея, эта девушка-лунный луч, эта девушка-серебряная лютня, встретилась с единственным вестником грядущего Бога, сыном Пустыни, ночи беззвездной, ночи безлунной. Она была полна нежнейших звонов, а он был полон красных вскриков боевых труб, и они не могли повстречаться – глазами в глаза, алое Солнце не увидело, как светит нежный Полумесяц, и Полумесяц превратился в режущий серп, – чем нежнее была единственная по красоте своей воздушность, тем смертельнее стал опрокинувшийся воздушный вихрь. Как те, которые хотят увидеть своего Бога, Иоканаан закрыл повязкой свое лицо, и Бога своего он увидел, но ее, единственную, он не увидал, Саломею, которая была лучшим Богом своим, как рычагом тяжеловесным грубо оттолкнул тончайшее, и эта слепота, как фатум, обусловила кровавое празднество, на котором незримо смеялись все Дьяволы.
Саломея, прекрасная, как белый лотос и лотос голубой, и золотой нарцисс, лилия Саронских долин, а того Бога, который ослепил Иоканаана, я не вижу и не люблю.“Я поцелую твой рот, Иоканаан, я поцелую твой рот”. Это страстный звенящий вопль красивой души, красивой как рассвет и как восход Луны. Он звенит через века. И за ним, за этим воплем, я слышу, доносится другой: “Я поцеловала твой рот, Иоканаан, я поцеловала твой рот”. Но сколько чего-то в нем нежно-жалкого, в этом вторичном вопле, какой он надорванный, этот последний серебряный стон сломанной лютни.
Никакое пришествие никакого Бога не может, не смеет заслонять и малейшей былинки, никакому Солнцу не должно быть власти над малейшею зыбью Лунного луча. Я вижу Саломею незапятнанной в веках, увенчанной всем ее девическим лунным блеском, на горном срыве, в холодных росах, а у ног ее алые цветы, которые вырастила не она, и вот она смотрит на них с изумлением».
Какой странный парадокс этот текст! Алые цветы – кровь, на которой танцует Саломея свой страшный танец. Она не знает греха, Саломея? Пришествие бога напоминает нам о грехе? Ему не следует приходить? У Солнца не должно быть власти над Лунным лучом? Но разве же Лунный луч – не отраженный луч Солнца? Возможность больше своей реализации? Прекрасное своей неисполненностью – «Я поцелую», сменяется надорванным серебряным стоном сломанной лютни: «Я поцеловала». Тайна не может быть разгадана, в противном случае она не может быть тайной. Но что тогда, кроме боли, нам в этой тайне? Зачем тайна?
Оскар Уайльд был уверен, что его «Саломею» могут понять только французы, поэтому я снова и снова призываю на помощь французских мыслителей, надеясь найти у них тайну тайны. Теперь Жак Деррида, его текст называется «Страсти»:
«Всегда можно “подвергнуть досмотру” тайну, заставить ее говорить, создать видимость, что она существует там, где ее нет. Можно лгать, обманывать, соблазнять, используя тайну. Можно делать из тайны подобие симулякра, иллюзии или дополнительной уловки. Некий “эффект”. На нее можно ссылаться, как на неприступный источник. Можно пытаться таким образом обеспечить себе фантазматическую власть над другими. Это происходит ежедневно. Но сам этот симулякр свидетельствует также о превосходящей его потенции. Однако она превосходит его не на пути к некой идеальной общности, а скорее в направлении одиночества, не имеющего ничего общего с одиночеством отдельного субъекта, солипсизма “эго”, чья сфера принадлежности могла бы дать повод к некоторому аналогичному представлению alter ego… Одиночество – другое название тайны, о чем лишний раз свидетельствует симулякр, не относится ни к сознанию, ни к субъекту, ни к Dasein, ни даже к Dasein в его аутентичной возможности бытия, свидетельство или подтверждение которого анализирует Хайдеггер. Одиночество делает их возможными, но то, что оно делает возможным, не приводит к исчезновению тайны. Последняя не дает одержать над собой верх, не дает перекрыть себя ни отношением к другому, ни бытием-вместе или любой другой формой “социальной связи”. Даже если тайна делает их возможными, она им не отвечает; она – то, что не отвечает. Никакой отзывчивости. Можно ли назвать это смертью? Смертью данной? Смертью принятой? Я не вижу никаких причин для того, чтобы не назвать это жизнью, существованием, следом. И это не противоречие».
Тайна – это то, что не отвечает, никакой отзывчивости. Иными словами, мы или вовсе не знаем тайны, либо тешим себя иллюзией тайны. Все, что мы знаем или можем знать об Уайльде, – лишь симулякр: копия копии, отражение отражения, удвоение удвоения. Копия копии, лишенная подобия, – это вымысел. Уайльд – вымысел, именно в этом состоит его смерть, именно так она реализуется. Но именно в вымысле начинается жизнь Уайльда, он так хотел. Он не хотел жить, и он не хотел смерти. Он придумал симулякр, тайну которого мы пытаемся разгадать. В симулякре мы обретаем вечность, но не обретаем любви.
В наивности есть милая глупость, в глупости – сплошная наивность. Мы все имеем слабость влюбляться в Нарциссов и в наивных, но милых своей непосредственностью глупцов, что, впрочем, одно и то же. В обоих случаях мы усматриваем тайну, которой нет; мы видим в них себя, не видя себя. Мы любим тайну, мы любим тайну любви. Возможность здесь лучше реализации… Но, задумайтесь, разве истинно любящий не знает тайны любви? А разве это тайна, если мы ее знаем? Нет, поэтому тайна любви – это величайшая из мистификаций. Любовь отличается от смерти только возможностью знания себя, эту возможность нельзя упускать, и не нужно путать то, что есть, с тем, чего нет, хотя оно и желанно.
Когда Лунный луч не распознается нами, как свет Солнца, мы готовы поверить в тайну. Когда сломанная лютня издает серебряный стон, мы знаем, что тайна существует. И в том, и в другом случае мы пытаемся назвать тайной незнание. «Тайна» звучит благороднее «незнания». Пусть тайной зовется незнание, но не зовите тайной заблуждение. Позвольте симулякру существовать без референта, бросьте симулякр; иначе говоря: живите. Любовь заключена в жизни, подлинность жизни – в любви; симулякры – туман. У любви не может быть копии, если в любви вам предлагают копию – вас обманывают. Не позволяйте обманывать вас в любви, пусть лучше вас обманывают в смерти; вот почему религия лучше симулякра любви, вот почему тайна лучше религии, вот почему нет ничего лучше любви. А другой Бог, действительно, пусть лучше к нам не приходит…
Роман Виктюк
Форма
Уайльд жонглирует формой и купается в содержании как ребенок в надувном бассейне, он облачает содержание в одежды формы. Но все это лишь фейерверк, огонь, у которого нельзя согреться. Мастерство и безусловный талант налицо, но такое затейливое обращение с формой не может вызвать ничего, кроме учтивой и все-таки эмоционально сдержанной оценки, оценки умения жонглировать. У Романа Виктюка другое, совсем другое. Он не развлекается формой как приятным десертом, он не занят своим удовольствием от этой забавы, подобно Уайльду. Роман Григорьевич в спектакле говорит со зрителем, обращается к нему напрямую, поэтому мы имеем дело не с замкнутой в самой себе формой произведения, которой можно только восхищаться, но которую нельзя испытать, а с формой со-бытия спектакля и зрителя. Зритель вводится в форму, и когда она разворачивается или, напротив, схлопывается, он испытывает необходимый катарсис.
Богатством своего «убранства» «Саломея» Оскара Уайльда может сравниться разве что с «художественной отделкой» его знаменитых сказок. И здесь, в «Саломее», может быть, единственный раз эта вышивка из драгоценных камней и не менее драгоценных тканей не разрушает, а усиливает драматический эффект повествования, впрочем, это происходит во многом за счет очевидного крена в символизм из обычного для Уайльда декадентства. Впрочем, сам Уайльд, наверное, даже не вполне это осознавал. Приторная атмосфера этой «отделки» как нельзя лучше выдает искусственность, нарциссичность любви царевны Саломеи, а вовсе не подчеркивает красоту или возвышенность этого чувства.
Декадентство дискредитировало понятие формы, причем даже в большей степени, нежели более поздние конструктивисты. Форма в руках декадентов разваливается, она перегружена блеском и множественностью содержания. Линии структур разрушаются до уродства красивым, избыточным, тяжеловесным орнаментом из содержания, они тают в его томном великолепии. После всего этого чрезмерного припудривания формы мы в лучшем случае способны разглядеть лишь точки фиксации структуры, сама же структура оказывается безвозвратно утопленной в материале. Но Роман Виктюк нашел удивительный и, наверное, единственный способ возрождения, восстановления иссохшихся линий структуры «Саломеи», треснувших под тяжестью содержания: он вводит в произведение самого Уайльда и его трагедию, и потому здесь, в драматическом действии, форма его судьбы, переплетаясь с формой «Саломеи», проявляет грани последней, возвращая ей ту остроту формы, без которой форма не может быть формой. Смерть и возрождение Уайльда происходит у нас на глазах.