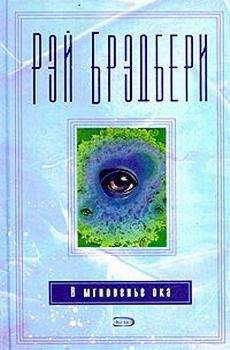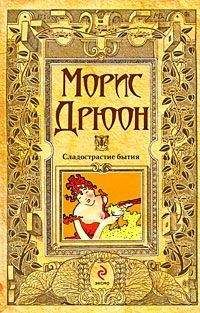Андрей Курпатов - Страх. Сладострастие. Смерть
Если ребенку прививают мысль о постыдности сексуального, с озабоченным лицом прерывают его попытки инфантильного онанистического удовлетворения; если на него кричат, когда он заглядывает сверстнику (сверстнице) в штанишки; если от него скрывают все, что связано с сексуальностью, так, словно бы для кого-то это тайна; если грубо осаждают всякие невинные попытки малыша нарушить этот абсурдный запрет, то он просто не может от носиться к сексуальности, как к чему-то хорошему. И стараясь подражать родителям, следуя их авторитету и своей любви к ним (а значит, и ко всему, что, по его мнению, для них свято), потакая их странной скромности, неловкости, когда дело касается этой темы, он – ребенок – неосознанно принимает агрессивную позицию в отношении сексуальности. Ребенка обманывают, а он ведь ничего не знает, поэтому все принимает за чистую монету. Беспокойство родителей заставляет его поклоняться запрету, потаенности, подавлению сексуальности, но не самой сексуальности, ради которой, кстати говоря, его родители способны на всяческие безумства, если, конечно, они еще способны.
Ребенок готов отказаться от удовольствия из-за своей любви к родителям. Кто хотел сделать по-настоящему больно своим родителям? Результат не заставляет себя ждать. Всякий может убедиться в этом, понаблюдав за тем, как, с каким внутренним негодованием десятилетняя девочка запрещает своей двухгодовалой сестренке стягивать с себя трусики в присутствии неких третьих лиц. Что она говорит ей, как она злится на свою неразумную сестренку! Запрет, запрещено, нельзя! «Ты что, не понимаешь?!» Неосознанно, по дискурсивным механизмам Уайльд проделывает с Саломеей аналогичную экзекуцию. Саломея нарушает запрет, который тысячу раз нарушал и сам Уайльд, правда, нещадно кляня себя за это, прячась, оглядываясь, оправдываясь, защищаясь позой, Платоном и Шекспиром: «Я вовсе не то хочу сказать, что с Мессалиной водиться более похвально, чем со Спором, – говорит Уайльд в письме к Уиллу Ротенстайну, – и что в первом случае все прекрасно, а во втором все ужасно; просто я понял, что сознательно пестуемый материализм, с его философией цинизма и похоти, с его культом чувственного – а на деле бесчувственного – наслаждения, действует на художника разрушительно, обедняя воображение и притупляя высшие формы восприятия. Да, мой мальчик, я пошел в жизни неверной дорогой. Я не сделал того, что мог». И вот еще одно, обратное по содержанию, но то же самое по сути высказывание Уайльда: «Изменить образ жизни – значило бы признать ураническую любовь недостойной. А я считаю ее достойной – достойнее всех других форм любви». В каком-то смысле он наказывает Саломею не только и не столько за нарушение запрета, а из зависти, но зависти опять же неосознанной, скрытой, отнюдь не меркантильной, зависти к свободе от дискурсивности и порождаемого ею страха, в этом смысле мы все завидуем Саломее и не испытываем истинного сожаления по поводу ее трагической кончины. Подавленные, мы хотим, чтобы свободный «получил по заслугам».
Во-вторых. Вы можете представить себе Саломею старой? Выцветшей, обрюзгшей, беззубой, слепой, с морщинистыми руками, сгорбленную, болеющую проказой? Можете?…
«Я едва успел на экспресс, – пишет Роберт Росс, – и был в Париже в 10:20 утра. При нем, помимо доктора Таккера, находился доктор Клейн – специалист, приглашенный Реджи. Они сообщили мне, что Оскару осталось жить от силы два дня. Вид его был ужасен: он очень исхудал, тяжело дышал, был мертвенно-бледен…
Нас дважды будил брат милосердия, когда ему казалось, что Оскар умирает. Около 5:30 утра с ним произошла разительная перемена, черты лица исказились – я полагаю, началась так называемая предсмертная трясучка; стали раздаваться звуки, каких я никогда раньше не слышал, напоминавшие отвратительное скрипение ржавого ворота, и они не прекращались до самого конца. Его глаза перестали реагировать на свет. Изо рта текла кровавая пена, которую все время приходилось вытирать. В 12 часов я вышел раздобыть еды, оставив на посту Реджи. Он, в свою очередь, отлучился в 12:30. С часу дня мы уже не покидали комнату; душераздирающий хрип становился все громче и громче. Мы с Реджи принялись уничтожать ненужные письма, чтобы чем-то себя занять и сохранить самообладание. Два брата милосердия ушли, и хозяин отеля заступил на место; в 13:45 ритм дыхания у Оскара изменился. Я подошел к постели и взял его за руку; пульс у него стал неровным. Он сделал глубокий вдох, напоминавший естественное дыхание, – в первый раз с тех пор, как я приехал, – тело его непроизвольно выпрямилось, дыхание сделалось слабее; он отошел в час пятьдесят минут пополудни».
Саломея должна была умереть молодой. Смерть смерти рознь. Какую угодно смерть не возложишь на алтарь любви, не осквернив при этом его белоснежного мрамора. Впрочем, как это глупо! Любовь нельзя возложить на алтарь смерти. Смерть не донести до алтаря любви, ведь любовь не знает смерти. Разница между ними столь сильна, столь разительна, столь немыслима и вместе с тем ощутима, что одно просто исключает другое. Смерть – это не пространственная точка, любовь – это не ограниченное ничем пространство. Именно поэтому нам кажется, что одно может быть познано через другое, и именно поэтому они не могут проявиться друг в друге. Глаз не видит звука, ухо не слышит света. Любовь и смерть – лишь символы. «Тайна любви больше, чем тайна смерти», – говорит Саломея за несколько мгновений до смерти. Что она знает о любви и о смерти? Что можно знать о символе? Любовь может так никогда и не оросить своей влагой спекшуюся кровь сердца, а смерть не придется звать дважды, в нужное время ее тайна властно и по-житейски расторопно поглотит человека. Тайна любви на фоне этого захватывающего мрака подобна тихому шелесту пожелтевших страниц. Но только стоя на пороге смерти, ты узнаешь великую ценность любви… Тогда как смерть не имеет никакой ценности.
Тайна смерти
«Лет семь тому назад, – пишет Константин Бальмонт, – когда я первый раз был в Париже, в обычный час прогулок, я шел однажды по направлению к церкви Мадлэн, по одному из больших бульваров. День был ясный, и полное ярких и нежных красок закатное небо было особенно красиво. На бульварах был обычный поток фигур и лиц, течение настроений и нервного разнообразия, мгновенные встречи глаз с глазами, смех, красота, печаль, уродство, упоение минутностями, очарование живущей улицы, которое вполне можно понять только в Париже. Я прошел уже значительное расстояние и много лиц взял на мгновение в свои зрачки, я уже насытился этим воздушным пиршеством, как вдруг, еще издали, меня поразило одно лицо, одна фигура. Кто-то, весь замкнутый в себе, похожий как бы на изваяние, которому дали власть сойти с пьедестала и двигаться, с большими глазами, с крупными выразительными чертами лица, усталой походкой шел один – казалось, никого не замечая. Он смотрел несколько выше идущих людей – не на небо, нет, – но вдаль, прямо перед собой и несколько выше людей. Так мог бы смотреть осужденный, который спокойно идет в неизвестное. Так мог бы смотреть, холодно и отрешенно, человек, которому больше нечего ждать от жизни, но который в себе несет свой мир, полный красоты, глубины и страданья без слов. Какое странное лицо, подумал я тогда. Какое оно английское, по своей способности на тайну».
Какое странное, какое английское, по своей способности на тайну, было лицо Оскара Уайльда. Под впечатлением этой ли мимолетной встречи, другого ли события, самой «Саломеи» Бальмонт пишет страстный текст, предваряющий издание этой пьесы в его переводе. Здесь он предлагает свою разгадку тайны. Странное дело – пытаться разгадать тайну… Но я умолкаю, не смея сократить, разрезать, разорвать высказывание, принадлежащее «последнему русскому великану чистой поэзии, представителю эстетизма, переплеснувшегося в теософию» (так назвал Бальмонта Андрей Белый):
«Если можно о какой-нибудь драме сказать, что она – сплошной драгоценный камень, что она – не драма, а многоцветное ожерелье из жемчугов и узорчатых камней, это нужно сказать именно о драме Оскара Уайльда “Саломея”. С первых же слов наши чувства вступают здесь в атмосферу повышенной впечатлительности, в чарованья особой Луны, особых благовоний, особых сплетений светов и слов, говорящих своими шелестами, шепотами, намеками и недосказанностями, что готовится особое сочетание светил, зловражеское влияние которого оставит по себе меняющуюся память на долгие века. Это змеиные зовы-узы, которые мелькают магнетическим блеском, – и воля скована, все воли скованы, каждый, кто приблизился в этот фатальный час к кругу дьявольского заклятия, теряет разум, и уже движется не по закону своих решений и волений, а по закону налетевшего вихря, как не своею волею движутся и узорно качаются разнородные ветви огромного дерева, задремавшего под Луной и проснувшегося под ветром с Моря.