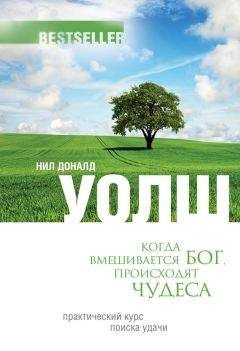Борис Парамонов - МЖ. Мужчины и женщины
Вспомним, впрочем, о дуэли Зосимы, когда он еще был Зиновием, и сравним это с ощущениями Ставрогина у барьера. 3. выдержал выстрел противника – после чего, возлюбив человечество, отказался от своего. Зосима – сублимация Ставрогина, однако в глубинно-психологической основе любовь одного и острые ощущения другого тождественны: это мазохизм, мазохистские восторги. Что-то вроде этого испытывал Достоевский. У него это сделалось эпилепсией, которую он называл всегда и только «падучей»: слово, максимально точно выражающее состояние униженности, «падения», которое сопровождается, однако, каким-то нечеловеческим блаженством. Фрейд считал эпилепсию Достоевского не органическим заболеванием, а истерическим симптомом. Интересно сопоставить это с описанием эпилепсии у Томаса Манна в «Волшебной горе», где соответствующую трактовку феномена дает доктор Круковский, представитель венской делегации, как сказал бы Набоков:
<...> этот психоаналитик, рассуждая о любви как болезнетворной силе, коснулся падучей; пользуясь то поэтическими образами, то беспощадно точной научной терминологией, он принялся доказывать, что эта болезнь, в которой доаналитическое человечество видело священный, даже пророческий дар и в то же время дьявольскую одержимость, является как бы эквивалентом любви, своего рода мозговым оргазмом. <...>
Отличие Достоевского от святого Франциска в том, что у второго этот феномен смягчился, приняв, так сказать, хроническую форму, тогда как Достоевский знал соответствующее переживание в острой форме эпилептических припадков.
Посмотрим на дионисизм не столько сублимированный, сколько исходный, не христианский, а древнегреческий, а также на возможные русские его параллели. С известной долей вероятности его русским аналогом можно считать феномен юродства. И еще одна интересная параллель обнаруживается – хлыстовство. Дионисово действо – экстаз, выхождение из себя в некоем коллективном радении и кружении, «священное безумие», охватывающее участвующих в действе вакхантов, приобщение к элементарным силам земли. В современных терминах можно сказать – культивированный уход в бессознательное, причем не индивидуальное, а коллективное. Участник Дионисова действа теряет свое «я» и в этой утрате усваивает нечто высшее и сильнейшее, сливается с бытийными стихиями, обретая в этом невозможную в индивидуальном существовании мощь и блаженство. Это оргийное, оргиастическое состояние, достигаемое и упомянутыми хлыстами.
В христианском опыте (тот же Франциск) подобное состояние переживается в одиночку, и поэтому, считается, не ведет к утрате личности ни самого носителя этих свойств, ни окружающих, здесь вроде бы сохраняется индивидуализированная любовь, уникальность человеческого лика.
Персонажем Достоевского, наиболее полно воплотившим эту установку, единодушно признается старец Зосима из «Братьев Карамазовых». Она у него осознана и артикулирована. Только один пример из бесед старца:
Господа, посмотрите кругом на дары Божии: небо ясное, воздух чистый, травка нежная, птички, природа прекрасная и безгрешная, а мы, только мы одни безбожные и глупые и не понимаем, что жизнь есть рай, ибо стоит только нам захотеть, и тотчас же он настанет во всей красоте своей, обнимемся мы и заплачем...
Это вот и есть францисканские цветочки и птички. Эту тему у Достоевского подхватил Ницше в «Антихристе». Тип христианина дан там по Достоевскому – естественно, с противоположной оценкой (у Достоевского номинально позитивной). Ницше прямо ссылается на «Идиота», и не исключено, что он читал «Братьев Карамазовых»: Зосима не меньше Мышкина подтверждает его, Ницше, трактовку христианина. Зосима, повторю, – сублимация Ставрогина. В «Антихристе» есть гениальная формула: христианин – это гедонист на вполне болезненной основе. Ницше говорит, что христианин спешит с любовью, чтобы разоружить оппонента или соперника, с которыми ему не справиться силой. Это и описано в сцене обеда со Зверковым. Силы и у Ставрогина не хватает, иначе с чего бы его били? Уточним: сила Ставрогина уходит на собственное пересиливание, на мазохистское подчинение. Мы знаем, что всех этих героев Достоевский писал с себя, подпольного антигероя, о котором совершенно правильно сказал Страхов, что именно тут надо искать психологический портрет Достоевского. Корней Чуковский, обнаружив рукопись незаконченной повести Некрасова, в которой описывался молодой Достоевский, был поражен тем, как у Некрасова похож на автора герой еще не написанных «Записок из подполья». Вообще пора перестать подозревать Страхова: его письмо Толстому стопроцентно правдиво, и в этой правдивости убеждает больше всего самый испуг Страхова (этой, по Розанову, «девушки» – каковыми девушками были, впрочем, все славянофилы), не способного охватить всю глубину явления, с которым столкнула его жизнь в лице гениального знакомца. Страхов не мог примириться с тем, что «Достоевский – сукин сын, и все настоящие писатели должны быть такими» (мемуары Хемингуэя). Подобное не укладывалось в сознание викторианца Страхова, подверженного к тому же, как все русские люди, предрассудку о святости писательства. Мы можем понять негодование Страхова, но также понимаем теперь, что негодовал он ошибочно. Острая реакция Страхова была ошибкой времени, дофрейдовой эпохи: непониманием того, что такие сюжеты отнюдь не являлись прерогативой Достоевского, гениальность которого и в том состояла, что он пытался подойти к этим темам – так, как подходит к ним его старец Тихон в той же сцене со Ставрогиным: понимая, так сказать, заурядность прегрешений последнего.
Розанов писал в статье 1909 г. «На лекции о Достоевском»:
Достоевский страшно расширил и страшно уяснил нам Евангелие. С давних пор его называют «великим христианским писателем» – но это имеет особенный и острый смысл: он первый художественно, в образах, в живописи, и в столь реальной живописи, показал нам ненаказуемость порока, безвинность преступления, показал и доказал великое евангельское «прости»... «Прости всем и всё и за всё»...
<...> Будет ли это необыкновенно хорошо или будет чудовищно отвратительно – ничего нельзя сказать. «Ослепли», «не видим»... Вот resume громадной работы Достоевского, работы гениальной, страшной.
Розанов здесь опять «шепчет», но это тот же человек, который скажет в 1917 году: Россия провалилась в яму, вырытую человечеству христианством. Достоевский, как мы знаем, такого не говорил – предпочитал молчать, а говорил о христианстве преимущественно штампами. Но ведь он написал не только «Дневник писателя». Достоевский понимал скрытый демонизм христианства. Его и Ницше понимал, который здесь куда как близок к Розанову: христианство – это оружие, которым слабые завоевали сильных. Соблазн в том, что сам Ницше был «слабым». Его антихристианство по сути самокритика, попытка преодолеть себя: неспособность быть «человеком» порождает мечту о «сверхчеловеке». В Ницше куда больше Шиллера, чем князя Валковского. У Достоевского же со временем Шиллер стал чуть ли не ругательством, и уж в нем точно было больше «князя Валковского». Но он, похоже, умел и в Шиллере найти сверхординарный интерес; скажем, не видел ли он в Дон-Карлосе и маркизе Поза некоего Кандавла? сексуальный подтекст у всех «Разбойников» девятнадцатого века?
Одним из таких разбойников он намеревался сделать Алешу Карамазова: революционером, социалистом, террористом. В то же время Алеша «святой», и вот в этом прозрении сходства типов святого и радикального социалиста сказался в сильнейшей мере, хотя имплицитно, гений Достоевского. Достоевскому было свойственно пугаться открытой им правды и заслоняться мужиком Мареем и Константинополем. Эту тему у него разглядел и сделал из нее специальность Мережковский: русская революция как религиозное действие. Существует некая медиация, общее между ними поле, на котором они внутренне, архетипически сходятся, христианский подвижник и революционер, и это общее поле – пол, сходная сексуальная ориентация. Мережковский как человек, женатый на Зинаиде Гиппиус, то есть сильно затронутый вопросом пола, проявил тут некоторую цепкость. Христианский святой и революционер-экстремист – вариации единого архетипа. С этим связан древний гностицизм, лежащий в основе всякого экстремального революционаризма. Об этом писали Анри Безансон и наш С.Л. Франк: подлинный революционер не царский режим или капиталистический строй отвергает, а космический миропорядок. «Я не Бога отвергаю, я мир Его отвергаю». Революционером-гностиком владеет ненависть к бытию, к вечным, онтологическим его основам, а не к преходящим условиям социальной жизни. Манифестация этой ненависти – неприятие женщины как образа и реальности бытийного строя.
Тут начинаются «мальчики» Достоевского: книга десятая «Братьев Карамазовых». Начинается «Коля Красоткин» как некий соблазн Алеши, некий для него лакмусовый тест. Обратим внимание на фамилию мальчика; что же касается имени, то назван он в честь Спешнева.