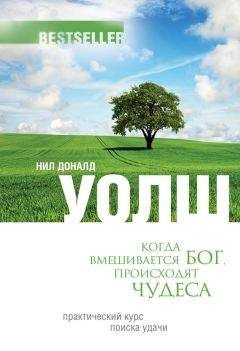Борис Парамонов - МЖ. Мужчины и женщины
Ставрогин – отчетливый женоненавистник, и автор, похоже, наделяет его собственным женоненавистничеством. Вспомните судьбы женских персонажей у Достоевского, скольких своих героинь он убил. Вещи Достоевского – настоящий женский погром. Начать хоть с Раскольникова: зачем понадобилось второе убийство, никак уже «идеологически» не оправданное, зачем кроме старухи-процентщицы появилась ее сестра, добрая, любвеобильная гулящая баба Лизавета? Чтобы продемонстрировать роковое нарастание однажды совершенного зла? По-видимому, так, но в глубине – а чтоб гулящая не гуляла, «прямой секс» неприятен автору. Недаром Раскольников, убив обеих женщин, стоит у двери, наблюдая, как ее рвут снаружи, и раздаются за нею мужские голоса (подобная сцена напряженного стояния у двери – в «Вечном муже»). Это замечательное воспроизведение атмосферы сна, но содержание его весьма специфично: герой, избавившийся от женщин, в замирании сердца ожидает мужчин. Убита Лиза в «Бесах». Убита Настасья Филипповна. Умирает девочка, дочка Трусоцкого (опять же Лиза) в «Вечном муже». Умирает Нелли в «Униженных и оскорбленных»: на поверхности – подражание «Лавке древностей», но мотив присущ Достоевскому помимо всяких влияний, и невольно вспоминаются слова Оскара Уайльда, сказавшего: «Только бессердечный человек может не рассмеяться, читая сцену смерти маленькой Нелли». Уайльду такое тоже нравилось, но, будучи человеком более «урбанным», он смеялся там, где Достоевский старался плакать.
Между прочим, почти все из убиенных – «Лизы». Проститутку в «Записках из подполья», морально измученную и оскорбленную героем, тоже, кстати, зовут Лизой. У Достоевского с этим именем связывалось каким-то образом устойчивое представление об унижении женщины. «Лизавета Смердящая». У него все женщины смердели.
Продолжим мартиролог. Вешается девушка в «Подростке». Кончает с собой «Кроткая». А сколько не убитых, но истязуемых, и калом измазанных, и из окна выброшенных, и на турецкие штыки поднятых, – и не только в вещах художественных, но и в «Дневнике писателя»: Достоевского привлекала эта тема. Еще деталь: девочки предаются чему-то вроде лесбийской любви в «Неточке Незвановой»; подспудный смысл этого эпизода и вообще этой установки у Достоевского: оставьте их на самих себя, мне они не нужны; девочек я люблю только как объект мучений, я их уничтожаю – унижаю и оскорбляю, не так, так этак. Уверен, что Достоевский оговорил себя, «похваляясь» перед Висковатовым девочкой (письмо Страхова). Резон здесь был – своеобразное самооправдание: всё-таки «девочка», а не «мальчик», преступление, но не извращение, – и твердое знание про себя, что никакие девочки ему не нужны.
Достоевский, как Гумберт Гумберт, любил вертеться около детских приютов. Такое внимание к «деткам», если оно не по обязанности, а, так сказать, по душевной склонности, – всегда очень подозрительно в вышеуказанном смысле. «Лолита», в сущности, – пародия на Достоевского.
А. Белый гениально обронил: «Будь он в царстве детей, он развратил бы их».
Еще: присутствие всякого рода «хромоножек» у Достоевского. Он, как Лебядкин, свою любовь обусловливает: «Ей, если б она сломала ногу». Он любил не только убивать и избивать своих героинь, но и калечить их. Правда, в «Братьях Карамазовых» все эти девочки нашли свою заступницу – Лизу (!) Хохлакову (в свою очередь, как сказали бы в старину, лишенную употребления ног). Она за всех девочек, за всех Лиз отомстила: сидит в кресле, ест ананасный компот и отрезает пальчики у распятого (!) мальчика. Это Достоевский самому себе мстит, да и девочек-то он убивал – в себе. Это он – девочка, млеющая от восторга, когда к ней приближается Ставрогин. Это вот и есть «идеал содомский» у Достоевского. «Содом» отнюдь не аллегория. Стоит ли говорить, что «порка» – эвфемизм?
Понятно, что природа этого мления – сексуальная, но было тут что-то еще, и важнейшее. Достоевский – надо ли повторять? – всё-таки не клинический случай. Этот мазохизм в нем сублимирован, он породил состояние, именуемое христианским дионисизмом. Это тема о религиозном обращении у Достоевского. Модель этого обращения – у Франциска Ассизского: унижение, перерастающее в блаженство.
Честертон пишет в книге о святом Франциске:
<...> когда он вернулся с позором из похода, его называли трусом. Во всяком случае, после ссоры с отцом его называли вором <...> над ним подсмеивались. Он остался в дураках. Всякий, кто был молод, кто скакал верхом и грезил битвой, кто воображал себя поэтом и принимал условности дружбы, поймет невыносимую тяжесть этой простой фразы. Обращение святого Франциска, как и обращение святого Павла, началось, когда он упал с лошади. Нет, оно было хуже, чем у Павла, – он упал с боевого коня. Все смеялись над ним. Все знали: виноват он или нет, он оказался в дураках. <...> Он увидел себя крохотным и ничтожным, как муха на большом окне, увидел дурака. И когда он смотрел на слово «дурак», написанное огненными буквами, слово это стало сиять и преображаться <...> когда Франциск вышел из пещеры откровения, он нес слово «дурак» как перо на шляпе, как плюмаж, как корону. Он согласился быть дураком, он был готов стать еще глупее – стать придворным олухом Царя Небесного.
Сравним это с Достоевским, хотя бы с «Записками из подполья»:
Я <...> всех презирал, а вместе с тем как будто их и боялся. Случалось, что я вдруг даже ставил их выше себя. У меня как-то это вдруг тогда делалось: то презираю, то ставлю выше себя.
У протагониста «Записок из подполья», говорит Набоков (нелюбовь которого к Достоевскому усиливала и обостряла критическое чутье):
Неудовлетворенные желания, страстная жажда отомстить, сомнения, полуотчаяние, полувера – всё это сливается в один клубок, порождая ощущение страстного блаженства в униженном существе.
В «Записках из подполья» дана психология его героев, но там же можно увидеть основу и механизм позднейших идеологических построений самого Достоевского: всех этих священных камней Европы, всечеловечности русских и русского же дара всемирного сочувствия. Откуда это у шовиниста Достоевского, разоблачителя французишек и полячишек? Да из необходимости чем-то компенсировать опыт унижения, опыт неудач и провалов, породивший тайное человеконенавистничество. (После первых триумфов Достоевский стал посмешищем в круге Белинского; особенно издевался над ним Тургенев, отомщенный в «Бесах».) Экстатическая влюбленность в мир – трансформация этого ненавистничества. Трудно жить, ненавидя Зверкова, нужно скорее признаться ему в любви. Ненависти уже нет, есть торопящаяся, какая-то захлебывающаяся любовь. «Клейкие листочки» из речей Ивана Карамазова – аналог «Цветочков» святого Франциска. О старце Зосиме и говорить нечего, это прямой Франциск, и с цветочками, и с птичками. Мысль о «всемирной отзывчивости» русских – проекция на исторический фон глубоко индивидуальных психологических особенностей самого писателя («то презираю, то ставлю выше себя»). Сугубо личные «комплексы» сублимированы в проповедь любви к миру. Происходит амплификация, расширение индивидуального опыта до масштаба мировоззрения, целостного восприятия мира. Всечеловечность русских, о которой говорил Достоевский в Пушкинской речи, – это его собственная готовность обнять мир, настолько жестокий, настолько невыносимый – для него жестокий и невыносимый, – что происходит уже некое мистическое сальто-мортале, и черное становится белым. Это вступают в действие механизмы психологической защиты: проекция вовне, на мир собственного унижения и беззащитности, и тогда приходит понимание, что не себя нужно жалеть и любить, а других, всех. Это и случилось с Достоевским – как за много веков до него с Франциском Ассизским.
Вспомним, впрочем, о дуэли Зосимы, когда он еще был Зиновием, и сравним это с ощущениями Ставрогина у барьера. 3. выдержал выстрел противника – после чего, возлюбив человечество, отказался от своего. Зосима – сублимация Ставрогина, однако в глубинно-психологической основе любовь одного и острые ощущения другого тождественны: это мазохизм, мазохистские восторги. Что-то вроде этого испытывал Достоевский. У него это сделалось эпилепсией, которую он называл всегда и только «падучей»: слово, максимально точно выражающее состояние униженности, «падения», которое сопровождается, однако, каким-то нечеловеческим блаженством. Фрейд считал эпилепсию Достоевского не органическим заболеванием, а истерическим симптомом. Интересно сопоставить это с описанием эпилепсии у Томаса Манна в «Волшебной горе», где соответствующую трактовку феномена дает доктор Круковский, представитель венской делегации, как сказал бы Набоков:
<...> этот психоаналитик, рассуждая о любви как болезнетворной силе, коснулся падучей; пользуясь то поэтическими образами, то беспощадно точной научной терминологией, он принялся доказывать, что эта болезнь, в которой доаналитическое человечество видело священный, даже пророческий дар и в то же время дьявольскую одержимость, является как бы эквивалентом любви, своего рода мозговым оргазмом. <...>