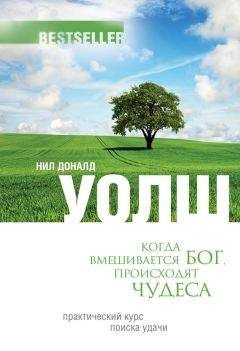Борис Парамонов - МЖ. Мужчины и женщины
Здесь сходится всё в Достоевском: и прозорливость гения, и ограниченность современника викторианской эпохи, да еще из православной страны, не решавшегося сказать всё, что он знал, связанного тысячами условий традиционной культуры – и не культуры даже, а быта, нравов, этикета. В Достоевском было сколько угодно «Сараскиной». Но в нем был и «Розанов». Вернее сказать, это он и породил Розанова, Розанов – его эманация. Бердяев говорил, что Розанов казался ему родившимся в воображении Достоевского. Если Достоевский не сказал всего, то он сказал почти всё. Розанову нужно было немногое, чтобы догадаться об остальном, – встретиться и сойтись с Аполлинарией Сусловой. Эта встреча, как некий химический реактив, проявила Розанова, была ему ироническим подарком судьбы, и не потому только, что Суслова не давала ему развода, заставив обратиться к теме христианства и пола, но и потому, что, надо полагать, рассказывала о Достоевском то, что может рассказать женщина.
Достоевский в очень заметной степени обладал той особенностью сексуального поведения, которая в психоанализе зовется «мотив Кандавла». Людей с этим комплексом интересуют не столько женщины, сколько связанные с ними мужчины. По видимости пылкая любовь к женщине может здесь выступать маскировкой и мотивировкой бессознательного влечения к ее партнеру. Считается, что эта особенность свидетельствует о репрессированном гомосексуализме. Нужно уж совсем закрыть глаза (кружевным платочком, как вельможа XVIII века у Тургенева), чтобы не заметить этого мотива у Достоевского, как в творчестве его, так и в жизни. В жизни это главным образом история с М.Д. Исаевой, ее мужем и ее любовником, о которых Достоевский волновался едва ли не более, чем о своей будущей жене. В творчестве это в первую очередь ранний рассказ «Слабое сердце», в котором Вася Шумков и его сосед Аркадий Иванович строят планы совместной жизни после предполагаемой женитьбы Васи на Лизаньке (я потом остановлюсь на значении этого имени у Достоевского). Затем можно вспомнить одну из линий в «Униженных и оскорбленных»: Иван Петрович, хлопочущий об Алеше и Наташе, в которую он сам влюблен. И наконец, самое значительное сочинение этого цикла, повесть «Вечный муж», в которой муж по очереди влюбляется во всех любовников своей жены.
Я мог бы в подтверждение сказанного заполнить целые страницы соответствующими цитатами из всех этих вещей Достоевского, но не делаю этого, предполагая, что те, кто ознакомится с этим текстом, читали и знают Достоевского. Предполагаю также, что Аполлинария Суслова, женщина многоопытная, не могла не замечать подобных особенностей Достоевского, а такого рода любовники вряд ли высоко ценятся женщинами ее склада. Надо полагать, что на постоянные приставания Розанова к своей авторитарной жене с просьбой поговорить о Достоевском, она что-то и отвечала. Вот из этих намеков и шепотков, а то и прямых меморий Сусловой вырос Розанов.
В «Людях лунного света» он сам не проговорил, а прошептал открывшуюся ему истину о христианстве. Это отнюдь не прямоговорение. Но бесконечно важнее другое: в открывшихся ему христианских безднах Розанов увидел – высоты:
Индивидуум начался там, где вдруг сказано закону природы: «стоп! не пускаю сюда!» Тот, кто его не пустил, – и был первым «духом», не-природою, не-механикою. Итак, «лицо» в мире появилось там, где впервые произошло «нарушение закона». Нарушения его как однообразия и постоянства, как нормы и «обыкновенного», как «естественного» и «всеобще-ожидаемого».
Без «лица» мир не имел бы сиянья, – шли бы «облака» людей, народов, генераций... И, словом, без «лица» нет духа и гения.
Амбивалентность самого Розанова в отношении к христианству более чем известна. Он христианство «демонизировал» уже не прикровенно, как Достоевский в художественных текстах, а откровенно, открыто-идеологически. Такова знаменитая статья «Об Иисусе сладчайшем и горьких плодах мира». Здесь тезис Розанова: мир прогорк во Христе. И противопоставляет он этому сладость «варенья» и семейной жизни, «прямой секс». Но вот кого уж нельзя выпрямить, так это самого Розанова, который ценил лицо не менее, чем род. Христианство – принцип индивидуации. Все это знали и без Розанова, но он указал на самый носитель, материальный, так сказать, субстрат этого принципа: сексуальную эксклюзивность, «нарушение закона».
Почему же Достоевский не видел того, что увидел всячески зависимый от него Розанов? Вернее, почему он не мог сказать того, что сказал Розанов? Ответ более или менее ясен: Достоевский не хотел истины о христианстве, потому что он предпочел истине Христа. Знаменитая апофегма начинает приобретать какой-то новый смысл в контексте вышесказанного. Христос был его тайной и «стыдом». Как писал Бабель: «И был промеж них стыд» (в рассказе под названием «Иисусов грех»). Поэтому появляется и двоится Ставрогин, этот субститут Христа у Достоевского. Видимый смысл «Бесов»: Россия обретет спасение у ног Христа, но для Достоевского «у ног Христа» означало то же, что «возлежать на персях Учителя». Достоевский в «Бесах» не столько провозглашал метод врачевания, сколько размышлял о двусмысленности врачевателя. Надлежало скрывать тот архетип, который увидел в Христе Розанов. У Розанова же не существовало этих репрессирующих сдержек, он был свободен от тайных переживаний Достоевского, да и время было другое, «декадентское»; поэтому он мог сказать большую о христианстве правду. Ему в христианстве «нечего было терять», никакой «потаенной любви» у него не было.
В чем сказывается у Ставрогина «христианский демонизм»? Здесь нужно обратиться к главе «У Тихона», к исповеди Ставрогина:
Всякое чрезвычайно позорное, без меры унизительное, подлое и, главное, смешное положение, в каковых мне случалось бывать в моей жизни, всегда возбуждало во мне, рядом с безмерным гневом, неимоверное наслаждение. Точно так же и в минуты преступлений, и в минуты опасности жизни. Если б я что-нибудь крал, то я бы чувствовал при совершении кражи упоение от сознания глубины моей подлости. Не подлость я любил (тут рассудок мой бывал совершенно цел), но упоение мне нравилось от мучительного сознания низости. Равно всякий раз, когда я, стоя на барьере, выжидал выстрела противника, то ощущал то же самое позорное и неистовое ощущение, а однажды чрезвычайно сильно. Когда я получал пощечины (а я получил их две в мою жизнь), то и тут это было, несмотря на ужасный гнев. Но если сдержать при этом гнев, то наслаждение превысит всё, что можно вообразить. Никогда я не говорил о том никому, даже намеком, и скрывал как стыд и позор. Но когда меня раз больно били в кабаке в Петербурге и таскали за волосы, я не чувствовал этого ощущения, а только неимоверный гнев, но был пьян и лишь дрался. Но если бы схватил меня за волосы и нагнул за границей тот француз, виконт, который ударил меня по щеке и которому я отстрелил за это нижнюю челюсть, то я бы почувствовал упоение и, может быть, не чувствовал бы и гнева.
Далее, в следующем же абзаце Ставрогин говорит о своих отроческих пороках а-ля Жан-Жак Руссо. Но пороки-то не те называет: нужно было говорить именно о мазохизме, о сладких чувствах, испытывавшихся мальчиком Руссо, когда его порола мадемуазель Ламберсье. Руссо в связи с Достоевским вспомнил Страхов в пресловутом письме Толстому. В случае Ставрогина этот мазохизм обладает ощутимо гомосексуальной окраской. Но иную, садистическую характеристику приобретают чувствования Ставрогина, когда речь заходит о женщинах, и особенно о девочках. Основное в исповеди Ставрогина – не проблематическое растление Матреши, а ее порка и последующее самоубийство. Растление – субститут и метафора насилия как такового. Насилие не сексуальное подразумевается, а грубо физическое, избиение, убийство. Девочка элиминируется, убирается со сцены, она не нужна Ставрогину. А была ли девочка? Может быть, девочки и не было? Великий психолог-сердцевед Достоевский допустил явную ошибку, коснувшись сексуальной биографии Ставрогина: сексуально растлеваемые дети не кончают самоубийством, уж скорее они сами делаются насильниками, порой убийцами (невротиками – всегда). Эротическое обаяние Ставрогина, которым наделил его автор, весьма, так сказать, непродуктивно. Еще участники дискуссии о прототипе Ставрогина Л. Гроссман и Вяч. Полонский говорили о том, что он дан у Достоевского импотентом, об этом же пишет Бердяев в упоминавшейся статье: Ставрогин отнюдь не «взял» Лизу. Жизненная правда в том, однако, что есть сколько угодно гомосексуалистов, способных кружить головы женщинам. Это вообще весомый признак гомосексуализма – подобная игра с женщинами, когда их завлекают, а потом отвергают, делая вид, что никаких любовных поползновений у кавалеров не было (А. Белый и жена Блока; тут же – типичный «мотив Кандавла»). Этот тип описан и прославлен в русской литературе задолго до Ставрогина – Печорин. Модельно «печоринская» вещь Достоевского – «Кроткая». Недаром Достоевский вспоминает Лермонтова, говорит, что Ставрогин в смысле злобы сделал прогресс даже против Лермонтова. В основе здесь – враждебность к женщине, стремление причинить ей горе, зло. Сексуальной близостью горя женщине не причинишь, тут никто ничего не теряет – в жизненной глубине, а не на этикетно-культурной поверхности. Можно сказать даже, что Матреша повесилась потому, что Ставрогин «не взял» ее, а придумал эту историю для Тихона: здесь начинается и кончается подлинная метафизика «Бесов». Марья Лебядкина – следующее романное воплощение Матреши – стала юродивой, «кликушей» по той же причине. В реальности сходный случай – сумасшествие жены гомосексуалиста К. Леонтьева, красивой мещанки. Достоевский в «Бесах» зафиксировал то состояние, которое Бердяев, в статье о Ставрогине, назвал метафизической истерией русского духа. Это покинутость русской земли волевым мужским началом. Метафизика здесь – в отсутствии «физики». А Марья Лебядкина и есть русская земля: см. ее слова о Богородице – матери сырой земле, этот признанный религиозный центр романа.