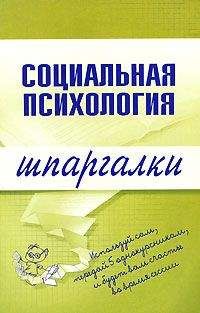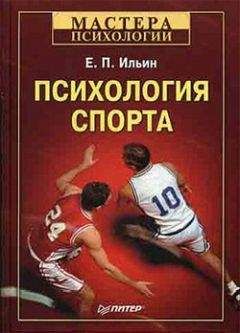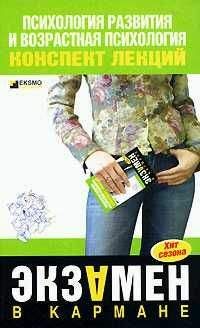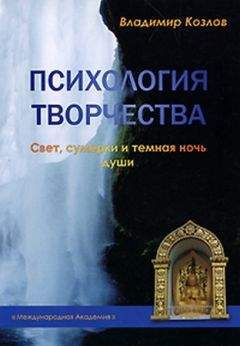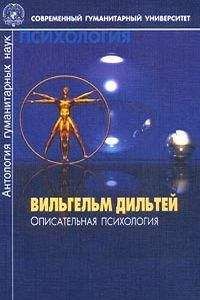Сергей Юрченко - Я. Философия и психология свободы
Только отделив самосознание от Сознания, можно понять всю палитру этих чувств, которые приводят психику к религиозному неврозу. Этот Бог разрывается надвое между интимным и общественным, как завеса в Иерусалимском храме, и вместе с ним трещит по швам психика. Более прозорлив М. Штирнер: « За положением: «Бог сделался человеком» следует теперь другое: «Человек сделался Я». Это – человеческое я. Мы, однако, переворачиваем это и говорим: я не мог себя найти, пока искал себя как человека. Теперь же, когда я замечаю, что человек стремится стать Я и найти в себе плотскую сущность, я понимаю, что все-таки все сводится ко мне и что «человек» без меня – погиб». Самосознание хочет быть Единственным, оно желает слиться с Сознанием, стать Богом.
Мы уже говорили, что молитва и весь мистический опыт были бы невозможны, если бы человеческое мышление не было бы изначально диалогом самосознания, в котором один говорит, а другой слушает. Психофизиолог В. Слезин сообщает по этому поводу: «Известно, что при бодрствовании в мозгу преобладают быстрые ритмы биотоков, что наблюдается и при сновидениях во время так называемого быстрого сна. Однако наряду с быстрым есть еще и медленный сон, при котором преобладают медленные ритмы биотоков. Закон симметрии требует: раз существует "медленный сон", должно быть и "медленное бодрствование". И действительно, оно есть, - это молитва». Медитация инициирует так называемый дельта-ритм, который является врожденным для младенца (лишь позже у него появляются другие ритмы). Энцефалограммы показывают, что при чтении молитвы у подопытных появляется ритм мозга, как у новорожденных детей. А поскольку новорожденное самосознание ближе всех к Сознанию, от которого только что оторвалось, осознав Я как Оно в первом же акте своего потока интенций, то именно дельта-ритм можно считать входом в то поле, которое мистики называют «астралом».
Нейрофизиологическую функцию молитвы в йоге выполняют дыхательные упражнения. Естественное состояние верхних отделов мозга – воспринимать внешний мир. При этом дыхание не требует от нас внимания, как и прочие функции саморегуляции. Этот процесс происходит автоматически, не поднимаясь обычно на поверхность нашего восприятия. Сосредотачиваясь на этом процессе дыхания, самосознание, как и при молитве, отвлекается от внешнего мира и замедляет ритмы биотоков. Можно сказать, что дыхательными упражнениями, которые необходимы не только в медитативных целях, но и рекомендуются психологами в повседневности при чрезмерном волнении человека в тех или иных ситуациях, заставляют мозг отвлечься от внешней реальности и взглянуть на самого себя, на свои первичные, примитивные функции, с которых и начинается всякое самосознание. Устал от мира? Боишься предстать перед публикой? Смерть тревожит тебя? Это значит, что твое Оно отдалилось от нуминозного Я. Отвлекись от мира, забудь о других, не дорожи своим Оно, но сосредоточься на первичных функциях самосознания, – и ты приблизишься к единому Сознанию (Богу). Так должна звучать инструкция по аутотренингу.
Бытие человека неизбежно состоит из переплетения индивидуального и общественного, интимного и публичного. Самосознание подобно планетам бродит по орбитам вокруг своего центра притяжения – Сознания. Это стремление к центру в природе самосознания, ибо самым ничтожным человек ощущает себя на фоне всего человечества и Вселенной, а самым весомым он чувствует себя наедине с нуминозным Я, которое называет Богом. В этом смысл медитации. В этом полезность дыхательной гимнастики. В этом прелесть молитвы. Человеку хочется присвоить Бога себе, став той самой сомнамбулой, объевшейся нуминозного. Но, отдаляясь от центра, самосознание обнаруживает себя не единственным, а лишь одним из многих клонов. На орбите социума речь идет о сотнях и тысячах других таких особей, на орбите нации счет им идет на миллионы, а на орбите человечества – их уже миллиарды. Миллиарды, которые нивелируют личность до зомби, того самого зомби, остро и безусловно ощущающего свою индивидуальность. Тут-то и рождаются адлеровское «стремление к превосходству» и ницшеанская «воля к власти».
Все мы – зомби. Самосознания – лишь игрушки Сознания, бродящие по социальным орбитам вокруг своего божества. И жизнь человека – будто танец игрушки, ходящей из круга в круг под притяжением бессознательного, во власть которого она полностью отдается во сне. И так – изо дня в день, до тех пор пока «не уснет навечно». Эту силу можно было бы назвать нуминозной гравитацией. Бог никогда не уйдет из человеческого бытия, как никогда не исчезнет то, что люди называют гравитацией, которая правит Вселенной.
Проблема – не в Боге, проблема – в человеке. На разочаровании официальной религией, испорченной жрецами, человек, ища свободы от них, выстраивает свою реформацию веры, которая рано или поздно опять протухнет. Вновь и вновь появляются пророки, которые порывают с официальной религией, не отрекаясь от официального божества. Но в нем-то все и дело. История религии – это циклическая летопись, порочный круг. Лишь поэтому справедливой оказывается фраза К. Маркса: «Религия есть вздох угнетенной твари». При этом, как шутил кто-то, только по недоразумению Маркс похоронен в той части кладбища, которое отведено для атеистов. Ведь это был очередной пророк сакрального исторического божества под именем «Коммуна», избравшего для своего царства божьего пролетариат.
Нет ничего более возвышенного, удивительного и прекрасного, чем это панпсихическое Сознание, носителями которого являются все продукты эволюции в этой и любой другой Вселенной. Тот же Эйнштейн, чья теория стала предметом ожесточенных споров и мистических спекуляций, во многих статьях и письмах говорил, что религиозным по своей сути является чувство восхищения, которое охватывает и ребенка, смотрящего в бездонное ночное небо, и ученого, который обнаруживает в этом небе структурную гармонию, и что без этого чувства познание превращается в бездушный эмпиризм («uninspired empiricism»). По его мнению «науки, искусства и религии являются ветвями одного дерева». Действительно, нет ничего порочного в том, чтобы познать законы этого космологического Сознания, создавшего Вселенную как миф из ничего, из сингулярности, как нет ничего ужасного в том, что некоторые из живых существ хотят воспеть это нуминозное Я в виде божества. Но рано или поздно эти «божьи твари» создадут Безгрешную Религию и Священную Тайну, приватизировав Бога в теократическом режиме.
Бейтсон, рассуждая о природе человеческой Тайны, вспоминает Пифагора и его школу, в которой числу придавали сакральный смысл. Простым следствием из знаменитой теоремы Пифагора был вывод, что в гипотенузе треугольника может присутствовать квадратный корень из 2, который, как оказалось, не разлагается в простую гармонию чисел, но является иррациональной величиной. Тут следует учитывать, что для адептов этой школы такой вывод был такой же научной ересью, как и открытие впоследствии неевклидовой геометрии или квантовой нелокальности. «Это открытие было для пифагорейцев ударом в лоб, оно стало главной тайной (но почему тайной?), секретным догматом их веры, – говорит Бейтсон. – Их религия была основана на разрывности серии музыкальных гармоник, демонстрирующей, что прерывность была на самом деле реальной и твердо основывалась на жесткой дедукции. И вдруг они встали перед доказательством невозможности простой дедуктивной гармонии».
Спустя две с половиной тысячи лет, большая часть из которых были отданы цивилизацией под власть религии, Флоренский твердит: «Христианство есть и должно быть мистериальным». Это звучит как ответ на известный атеистический афоризм: «Религия есть и должна быть опиумом для народа», ведь в древнейших мистериях жрецы как раз использовали психоделические вещества, чтобы постичь, т.е. присвоить себе Бога. Значит ли это, что быть сомнамбулой, объевшейся нуминозного, - это хорошо?
Нечто подобное утверждал и Р. Вагнер, полагая, что музыка будущего должна быть мистериальной, а его оперы – это священнодействия, которым не место на театральной сцене среди «волн фривольности». По этой же причине Вагнер утверждал, что античная трагедия в своих исторических условиях была более мистериальной, чем храмовые культы греков. Он писал: «Как человек до тех пор не освободится, пока не примет радостно узы, соединяющие его с Природой, так и искусство не станет свободным, пока у него не исчезнут причины стыдиться связи с жизнью». Но разве у религии и музыки одни и те же цели? Тогда почему религия присваивает себе то, на что музыка никогда не претендовала, - на земную власть, на истину в последней инстанции, на контроль за обществом, на материальные атрибуты собственного существования? Ей следовало бы удовольствоваться сферой шоу-бизнеса. Но, называя себя домом Бога на земле, она не желает быть домом развлечений.